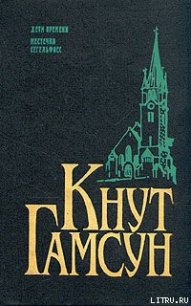Огонь юного сердца - Выговский Владимир Степанович (книги серии онлайн .txt) 📗
- Ты за что это, разбойник, истязаешь ребенка?! А ну убирайся со двора, покуда голову не размозжила!
Комендант, вероятно, испугался бабушку, так как тут же меня отпустил и, удивленно вытаращив глаза, пробормотал:
- Но-но, матка! Но-но! - и попятился со двора.
На следующий день утром я пошел к соседскому мальчику Павлушке вырезать для повозочки колесики. Тут внезапно следом за мной прибегает бабушка Оксана, очень обеспокоенная, вся в слезах:
- Скорей беги, сынок, беги! Приехали из района полицейские за тобой! Все в хате перерыли. Руки мне повыкручивали. Старика забрали… Беги! Ради бога, скорей беги!
Кто мог подумать, что от обычной песни враги придут в такую ярость!
В КИЕВЕ
Почти сутки я шел, сам не зная куда. А потом твердо решил возвратиться в Городницу. Ведь все равно: тут фашисты и там фашисты. В Городнице прошло мое детство, там меня знают - хуже не будет: свои в обиду не дадут. Кроме того, в лесу, может, есть партизаны. Ходят же слухи, что появились где-то мстители. А у нас там места самые подходящие для них - вокруг леса и болота. Черта с два немцы туда полезут!.. Я найду партизан. Мне каждый куст знаком в лесу.
Жаль деда Остапа. из-за меня его арестовали. Только бы не расстреляли! Вот «Катюша» так «Катюша»! А Медеры смелый солдат! Если бы все были такими, не было бы, наверное, войны. Интересно, откуда узнал комендант о том, что именно я научил венгров петь «Катюшу»? Солдаты не могли сказать. Они не такие. Это, наверное, кто-нибудь из соседских ребят,- я им накануне похвалялся.
Не чувствуя усталости, ежедневно проходил я по тридцать километров. Но случилось в дороге несчастье - я сильно за-
болел. Путь мой лежал через Киев. Идя по улице, я, обессиленный, упал на тротуар. Какая-то старушка помогла мне подняться и, держа за руку, отвела в Золотоворотский сквер.
- Тут на травке тебе будет лучше, сынок,- сказала она и, тяжело вздохнув, пошла своей дорогой.
Весна была в полном разгаре. Деревья, кусты одевались в пышный наряд из молодых липких листочков, земля украсилась густой зеленой травой и цветами. Весело щебетали птички, тепло и ласково грело солнце. Однако город, как и люди, был неприветливым, пасмурным и суровым. Прохожие все время куда-то спешили, несли узелки, чемоданы, корзины или толкали впереди себя тележки, тачки, нагруженные картошкой, дровами, домашней утварью. Все судачили только об одном: о хлебе. Людей, которые совсем потеряли силы и опухли с голоду, можно было видеть повсюду: они лежали в скверах, на базарах, площадях и на всех улицах города. Никому до них не было дела.
В число этих людей попал и я. Как и они, протягивая дрожащие руки, больной, голодный, никому не нужный, словно собака, валялся я под забором. Тело мое горело огнем. Невыносимая жажда и голод мучили меня. С пересохших, потресканных до крови губ не сходило:
- Хлеба… Хлеба…
Через забор перелезли два мальчика. Они были моих лет и точно так же, как я, одеты в лохмотья. Невдалеке от меня сели на траву и начали есть хлеб, аппетитно причмокивая. Один из них отломил краюху и молча протянул мне. Потом между ними завязался разговор, из которого я узнал, что эти ребята остались без родителей и, спасаясь от голодной смерти, начали по базарам воровать.
- Теперь иначе не проживешь,- сказал рыженький мальчик, тяжело вздыхая.- Правда, жизнь эта тоже не сладкая.- Он опять вздохнул: - Недавно поймали, избили… ребра до сих пор болят. Эх, жизнь настала! Я почти десять суток был голодный… вконец выбился из сил, опух. Отца моего вон там, на Крещатике, убили, мама с голоду..,
Я закрыл глаза и словно на экране кино увидел этого грязного рыжеватого мальчика, который склонился над скорченным в предсмертных муках телом своей мамы… Увидел в развалинах Крещатика труп его отца, расстрелянного фашистами. Перед моими глазами двигалось бесконечное шествие голодных людей, которые неделями простаивали на морозе возле биржи
труда в ожидании работы и хлеба. Среди них был и он, рыженький мальчик. Потом я увидел его опухшим на улице…
- Пойдем с нами, уже вечер,- словно сквозь сон услыхал я над собой голос рыженького.
Я ничего не ответил, даже не открыл глаза. Почему-то очень тяжело было их открыть, не помню - думал я тогда или, может, бредил…
- Пойдем, пойдем,- волнуясь, тормошил меня рыженький,- а то заберут тебя, как и меня, в лагерь. Помоги, Коля, бери его за руку,- командовал он.
Я едва поднял голову и хотел было сказать ребятам: «Как же мы потом будем смотреть в глаза нашим?» Но вышло иначе-нагайка венгерского коменданта и арест деда Остапа научили меня держать язык за зубами.
Я не пойду с вами, ребята,- ответил я и, обессиленный, опять повалился на траву.
Почему? - удивился рыженький.
Потому, что я не могу…
Глупости, наешься вдоволь хлеба, и все пройдет,- подбадривал Коля.
Я не могу… воровать.
Научишься; я тоже думал, что не смогу,- сказал рыженький.- Сам увидишь, что это делается быстро и просто. Подойдешь к спекулянтке и начнешь: «Дайте хлеба… Дай-те хле-е-ба-а…» А она: «Пошел ты к чертям!» А ты опять: «Дай-те хле-е-ба-а!..» Спекулянтка не выдержит и бросится за тобой, а мы в это время с Колей хвать буханку - и ходу… А тебя хоть и поймают, ничего не будет, ведь ты не крал, ты просил. За тебя еще и заступится кто-нибудь, есть ведь добрые люди… Идет?
Нет, как-то совестно,- вздохнул я.
Подумаешь - «совестно». Сдохнешь со своей совестью, как собака. Думаешь, кто-нибудь позаботится о тебе? Сейчас нет таких людей, прошли те времена. Полицейские пристреливают всякого, кто валяется под забором. Или в лагерь заберут, за колючую проволоку. «Совестно»… Ну, и оставайся со своей совестью. Пошли, Коля. Ауфвидерзейн! - Рыженький снял фуражку и артистически мне поклонился.
Передумаешь, ищи нас на Сенном рынке! - крикнул Коля, и, перелезши через забор, они куда-то скрылись.
Я посмотрел им вслед и тяжело вздохнул: «Кто его знает, может, следовало было пойти с ними?»
Ночь я провел в сквере. Более тяжелой ночи у меня, наверно, никогда еще в жизни не было. Я шатался, обливаясь потом, поднимался и опять от слабости падал, больно ударяясь о землю. Только утром, собравшись с силами, я поднялся и, пошатываясь, словно ребенок, который делает первый шаг, медленно поплелся по улице.
Впервые в своей жизни я попал в такой большой, шумный город. С любопытством смотрел я на многоэтажные здания, рассматривая горожан.
Мимо меня по тротуару с корзинами и котомками за плечами шли прохожие. Они тоже настороженно посматривали на встречных гитлеровцев. И я подумал о том, сколько у нас хороших людей, не может быть, чтоб они не победили проклятого врага! Правда, попадались и такие, которые чувствовали себя свободно, независимо и весело. Но, к счастью, их было немного. Особенно бросались в глаза кокетливые, с немецкими прическами девицы, шедшие рядом с офицерами.
- Я вешал бы таких…- тихо произнес один старичок и трижды сплюнул в их сторону.
Через полквартала я услыхал душераздирающий женский крик и, оглянувшись, увидел на улице длинную колонну евреев. Немцы-конвоиры жестоко избивали прикладами отстающих и молодецки выкрикивали:
- Юде - капут! Юде - капут!
Женщины были простоволосые; беспрестанно и громко вопили, заламывая руки. Жалобно всхлипывали дети. Это была страшная картина, я не мог смотреть… Прислонившись к стене дома, я крепко, чуть не до боли, закрыл глаза и не открывал их долго-долго, пока где-то вдали не исчезли эти несчастные.
Вскоре, неожиданно для себя, я вышел к большому шумному базару. На лавках было много хлеба, пирожков, рыбы, сыра, яиц. Из кастрюль вкусно пахло борщом и картошкой. На сковородах шипела домашняя колбаса.
- Горячий обед! Горячий обед! - слышалось вокруг.
Глаза мои невольно впивались в еду, рот наполнялся слюной, и я уже не мог удержаться, чтобы не попросить. Но зря я ходил с протянутой рукой - толстые спекулянтки еще издали кричали: