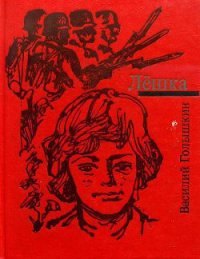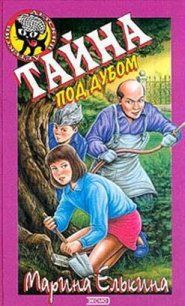Бахмутский шлях - Колосов Михаил Макарович (читать книги полностью без сокращений TXT) 📗
— Нашатырь.
Нашатырный спирт, холодный и острый, шибанул в нос, стало лучше. А врач проговорил:
— Повязку.
Перебинтовали Яшке крест-накрест всю грудь и спину и покатили в другую комнату. Там осторожно уложили на койку, прикрыли одеялом.
Мягкие бинты ласково обжимали грудь, Яшка согрелся и вскоре, ослабевший, притих.
В ГОСПИТАЛЕ
Спал не спал, очнулся — кругом ночь, и не помнит Яшка, где он и что с ним. В помещении полумрак, откуда-то проникает слабый свет — то ли от керосиновой лампы, то ли от свечи. Свет настолько слабый, что в двух шагах не различишь предмета. Повернуться хотел — не смог: все тело разболелось, обмякло, в плече кольнуло, заныло тупой болью. Застонал Яшка и тут же пристыдил себя: к чему, разве поможет?
А встать необходимо, терпения никакого нет, будто он накануне арбузов наелся или чаю надулся — подпирает, покалывает внизу живота. И надо же такому случиться! Обычно он мог терпеть хоть две ночи подряд, а тут приспичило… Перевернуться бы на другой бок, может, и потерпел бы до утра, да больно. Так и лежит он — правой щекой в подушку, правая рука отброшена назад, за спину, онемела от неудобства, а левая — тут, под грудью, как куколка, лежит в гнездышке из бинта. Чтобы не тревожить руку, подвязали ее бинтом за шею…
Попробовал Яшка выпростать правую руку из-под себя, выпростал и сам перевернулся на спину, как горбатое бревно, лишившееся подпорки. Вскрикнул от нестерпимой боли. На лбу капли пота выступили — обильного, холодного. Больно, но делать нечего, вставать надо. Сжав зубы, кряхтя, тужился приподняться.
Откуда-то из дали, мутной, как вода в пруду после половодья, появилась нянечка в белом халате.
— Что с тобой, солдатик? — склонилась она над Яшкой. — Лежи спокойно, лежи, вставать нельзя.
По голосу понял Яшка, что нянечка — совсем молодая девушка, и враз отяжелел у него язык, не поворачивается сказать ей о своей беде-нужде.
— Ну, что с тобой? — В голосе нянечки послышалось беспокойство.
А у него крутятся на языке слова «хочу на двор», но сказать не может, стыдится.
— Выйти хочешь? — догадалась нянечка.
— Да…
— Так бы и сказал… Глупенький… Я подам тебе «уточку».
Она помогла Яшке лечь поудобнее, принесла стеклянную с задранной вверх длинной горловинкой «утку», сунула под одеяло и ушла.
Ощупал Яшка холодное гладкое стекло, вытащил рассмотреть получше диковинку. «Утка» была похожа на колбу из химкабинета в школе. Химик Харитон Иванович какие-то жидкости в такой подогревал на спиртовках и фокусы разные показывал. А теперь, вишь, для чего приспособили…
Облегчился Яшка, и сразу ему лучше стало, и даже на душе повеселело.
Пришла нянечка, унесла «утку». Яшка хотел сказать ей «спасибо», но постеснялся.
Притих, прислушался: где то кто-то стонал тяжело и одиноко, ни к кому не обращаясь и не жалуясь, просто человеку было очень больно. Из другого угла слышалось дыхание с присвистом — кто-то крепко спал.
Передовая, видно, недалеко, слышно, как толкут землю снаряды и бомбы; подрагивает пол под койкой, стекла тихо позванивают. Но вот неожиданно взрывы раздались совсем близко — частые, один за другим. А вслед за ними — винтовочная и пулеметная стрельба.
Раненый перестал стонать, стихло дыхание спящего. Подумалось вдруг Яшке, что это немцы фронт прорвали, и стало ему жутко: убежать он не сможет.
Приподнял голову, прислушался — не бегут ли люди. Но вокруг все было спокойно.
Стрельба продолжалась почти до самого утра. Яшка привык к ней и заснул. Когда проснулся, стояла спокойная предутренняя тишина. В палату пробивался серовато-розовый дрожащий дневной свет.
Когда совсем рассвело, к Яшке подошла сестра, но не та, что была ночью, а другая — постарше и посолиднее. Она подставила к Яшкиной койке табуретку, присела на нее и, склонившись, тихо спросила:
— Ну, как мы себя чувствуем?
Яшка заметил, что из-под халата у нее на шее выбивается военная гимнастерка, и почему-то удивился этому. Не зная, что ответить, он только улыбнулся смущенно: сказать «хорошо» — будет неправда, а жаловаться на боль — неудобно.
— Похоже, ничего, — сестра закинула ногу на ногу, положила на колено стопку твердых листков бумаги, приготовилась писать. Она спросила, как Яшку зовут, откуда он, сколько ему лет.
— В каком году был угнан?
Яшка не понял, о чем спрашивает сестра, переспросить же стеснялся. Наконец выдавил из себя.
— Куда?..
— Как куда? В Германию. Ты из репатриированных?
Чудное слово Яшка слышал впервые и, что оно значит, не знал. Но как бы там ни было, а он совсем не из «тех», о ком она спрашивает, и Яшка неуверенно проговорил:
— Нет…
— Как нет? — удивилась сестра. — Ты из какого лагеря? Где ваш лагерь находился? Вспомни, как называлось место или город поблизости?.. А может, ты у бауэра в работниках был?
— Нет…
Сестра выпрямилась, вздохнула и снова, не повышая голоса, принялась за расспрос:
— Откуда ты пришел в Драйзикмюле? Как ты сюда попал?
— На поезде приехал.
— Откуда?
— Из Васильевки.
— Ничего не понимаю.
— Правда, из Васильевки.
Обидно Яшке, что его никак не поймут, стал подробно объяснять, куда и зачем ехал. Слушала сестра, а на лице появлялось то удивление, то разочарование. Выслушала, покачала головой:
— Твоя мать поступила необдуманно. Вместо одного она могла лишиться обоих сыновей. Разве можно было отпускать на поиски армейского госпиталя? Абсурд!
Конечно, могла, мало ли что случается с людьми. Но с тем, что мать поступила необдуманно, Яшка не согласен. Ведь он ехал не куда-нибудь, а к брату Андрею…
— Теперь напишешь о себе, и кто-то поедет тебя разыскивать?
— Некому больше ехать, — сказал Яшка.
— Сама пустится в дорогу, не усидит.
— А я писать ничего ей не буду, — решил Яшка.
— Мудро, но не очень, — возразила сестра. — Написать-то все-таки надо. Дело другое — как написать. Тут стоит подумать. Вот тебе бумага, карандаш…
Протянул Яшка руку, но сестра положила листок снова в стопку, сказала:
— Ладно, сама напишу, а потом покажу тебе, — она кивнула на Яшкину руку, висевшую на перевязи, укоризненно качнула головой, будто он сам виноват в своей болезни.
Сестра уже совсем было собралась уходить, как в палату внесли раненого. Его осторожно переложили с носилок на койку по соседству с Яшкой, Яшка взглянул на соседа и, к удивлению своему, узнал в нем того солдата, который угощал его хлебом и сахаром. Лицо у солдата было землисто-серым, щеки опали, усы обвисли. Он лежал неподвижно с закрытыми глазами и тихо стонал.
Не успел Яшка собраться с мыслями, как санитары снова принесли носилки и заняли койку напротив. Новый раненый громко и сердито попросил их не класть его, а посадить.
— Я хочу смотреть на людей! Я честно воевал и хочу перед смертью смотреть людям в глаза.
Его посадили, подложив под спину подушку. Вся грудь и живот у раненого были перебинтованы. Словно запеленатый ребенок, он не мог повернуться и вращал головой, стараясь расслабить тугие бинты на шее. Прядь волос упала ему на лоб и закрыла левый глаз. Он силился сдуть ее и никак не мог.
«Зачем они ему руки связали?» — подумал Яшка и вдруг понял, что у того совсем нет рук.
Раненый, наконец, справился с прядью — откинул ее рывком головы назад. Это далось ему нелегко: он тяжело задышал, на лице у него выступили крупные градины пота.
Яшка смотрел на него в упор, забыв о своей боли. Ему даже стало стыдно, что он стонал от такой пустяковой раны, в то время когда рядом человек без обеих рук не издал ни одного стона.
Постепенно Яшка сообразил, что перед ним был тот самый молодой, красивый, в новеньком обмундировании лейтенант. Яшка не сразу его узнал, а узнав, почему-то подумал: «А где же ремень и планшетка?»
Встретившись глазами с Яшкой, лейтенант проговорил:
— Вот так-то, браток! Отвоевался… — и вдруг закричал: — Сестра-а-а!..