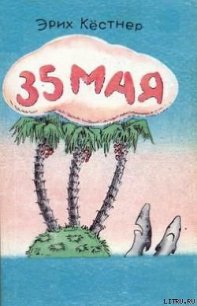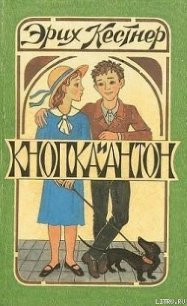Когда я был маленьким - Кестнер Эрих (читать книги .TXT) 📗
Потери в боях были огромные. Одним мановением руки я уничтожал по нескольку полков сразу. И наполеоновская старая гвардия умирала, но не сдавалась. Еще во внутреннем дворе после взятия приступом подъемного моста бой продолжался. Нюрнбергские оловянные солдаты отличались необыкновенной стойкостью. Почтальон и маленькая фрау Вильке с пятого этажа вынуждены были, переступая по-журавлиному, делать гигантские шаги, дабы не помешать победе или поражению. Они осторожно перешагивали через друга и недруга, а я ничего не замечал. Ибо был главнокомандующим и начальником генерального штаба обеих армий. От меня одного зависела участь всех столетий и народов. Так неужто мне помешает какой-то почтальон из Дрезден-Нойштадта! Да я на него и не посмотрю! Или миниатюрная фрау Вильке из-за того, что ей, видите ли, нужно купить себе пяток кольраби и немножко соли и сахару!
А когда исход битвы был решен, я укладывал убитых, раненых и невредимых оловянных солдатиков в нюрнбергские деревянные коробки между слоями тонкой древесной стружки, разбирал гордый рыцарский замок и тащил весь этот игрушечный мир и игрушечную мировую историю в нашу крохотную квартирку.
...Кенигсбрюкерштрассе, 48, - второй дом моего детства. Стоит мне сейчас, в Мюнхене, и, как говорится, пожилым уже человеком, закрыть глаза, как я тотчас ощущаю под ногами лестничные ступени, а седалищем - край ступенек, на которых сидел, хотя по прошествии более полувека седалище мое весьма отличается от тогдашнего. А когда я представляю себе набитую доверху продуктовую сумку коричневой кожей, которую тащил вверх по лестнице, то мне сначала оттягивает левую и лишь потом правую руку. Потому что до третьего этажа я нес сумку в левой руке, чтобы не задевать стенку, и потом уже перекладывал сумку в правую и левой рукой крепко держался за перила. А под конец я с облегчением перевожу дух, совсем как тогда в детстве, когда, поставив сумку перед дверью, я нажимал кнопку звонка.
Память и воспоминание - таинственные силы. Причем наиболее таинственная и загадочная из них обеих - воспоминание. Память касается только нашей головы. Сколько будет семью пятнадцать? И вот уже Паульхен кричит: "Сто пять!" Он это учил. И это удержалось в голове. Или забылось. Или же Паульхен восторженно восклицает: "Сто пятнадцать!" Правильно или неправильно мы запомнили или позабыли и должны заново сосчитать - и хорошая и плохая память обитают в голове. Здесь помещаются ящички для всего, что мы учили. Они похожи, как мне кажется, на ящики шкафа или комода. Иногда ящик заедает. Иногда в них ничего не лежит, иногда лежит шиворот-навыворот. А иногда ящики вовсе не открываются. И тогда и они и мы - ни с места. Бывают большие и малые комоды памяти. Например, у меня в голове комод довольно маленький. Ящики лишь наполовину заполнены, но в них относительный порядок. Когда я был маленьким, все обстояло иначе. Тогда мой чердачок был все равно что пустая гардеробная!
Воспоминания лежат не в ящиках, не в шкафах, не в голове. Они обитают в нас самих. Обычно воспоминания дремлют, но они живы, дышат и время от времени открывают глаза. Они обитают, живут, дышат и дремлют повсюду. В наших ладонях, в ступнях ног, в ноздрях, в сердце и в заду брюк. Что мы однажды в прошлом пережили, спустя годы и десятилетия вдруг возвращается и глядит на нас. И мы чувствуем: оно и не уходило вовсе. А только спало. И когда воспоминание пробуждается и спросонок протирает глаза, бывает, что оно будит другие воспоминания. Тогда поднимается такая кутерьма, как по утрам в дортуаре.
Особенно загадочны самые ранние воспоминания. Почему я вспоминаю что-то, приключившееся со мной в двухлетнем возрасте, и ничего не помню о себе в возрасте трех-четырех лет? Отчего мне запомнился тайный советник Хэнель, заботливая медицинская сестра и садик частной клиники? Мне оперировали ногу. Перевязанная рана горела как в огне. И матушка, хотя я тогда уже умел ходить, несла меня домой на руках. Я всхлипывал. Она меня утешала. Я и сейчас чувствую, каким я был тяжелым и как у нее устали руки. У боли и страха хорошая память.
Ладно, но почему же тогда мне вспоминается господин Патиц и его Ателье художественной фотографии на Баутценштрассе? На мне матросский костюмчик с белым пикейным воротником, черные кусачие чулки и башмачки на шнурках. (В наши дни маленькие девочки ходят в брюках. Тогда маленькие мальчики ходили в юбочках!) Я стою возле низенького резного столика, а на столике стоит ярко раскрашенный парусник. Господин Патицон за фотоящиком на высоких ножках прячет свою художническую голову под черную тряпку и велит мне улыбаться. Но так как ничего не получается, он достает из кармана игрушечного паяца, несколько раз взмахивает им в воздухе и, очень довольный собой, радостно кричит: "Ку-ку! Ку-ку!" Господин Патиц кажется мне ужасно глупым, но тем не менее в угоду ему и ради стоящей поблизости матушки я заставляю себя стеснительно улыбнуться. Артист-фотограф нажимает на резиновую грушу, принимается медленно и сосредоточенно считать вслух, закрывает кассету и помечает заказ: "Двенадцать карточек визитного формата". Одна из этих двенадцати карточек хранится у меня и поныне. На обороте - надпись поблекшими чернилами: "Мой Эрих в три года". Это написала матушка в 1902 году. И когда я смотрю на малыша в юбочке, на круглое, стеснительно улыбающееся детское личико под аккуратно подстриженной челкой и нерешительно задержавшуюся на уровне пояса правую пухлую ручонку, у меня и сейчас зудят подколенки.
Они вспоминают тогдашние шерстяные чулки. Почему? Как они этого не забыли? Неужели посещение Художественной фотографии Альберта Патица было настолько уж важно? Неужели оно составляло для трехлетнего ребенка целое событие? Не думаю... не знаю. А сами воспоминания? Они живут, и они умирают по им и нам неизвестным причинам.
Иногда мы думаем и гадаем, бьемся над этим вопросом. Пытаемся приподнять краешек завесы и увидеть причины. Пытаются это делать и ученые и неученые, но по большей части загадка так и остается загадкой. И мы с матерью однажды пробовали. На примере жившего по соседству мальчика, моего сверстника, некоего Рихарда Наумана. Он был на целую голову выше меня, хороший малый и терпеть меня не мог. Не терпит так не терпит, я бы с этим, на худой конец, примирился. Но я не понимал, за что. И это сбивало меня с толку.
Наши матери, когда мы еще лежали в детских колясках, сидели рядом на зеленых скамейках в саду Японского дворца на берегу Эльбы. Несколько познее мы с ним, сидя на корточках в ящике с песком, пекли в формочках куличики. Мы вместе ходили в гимнастическое общество Ной- и Антон-штадта на Алаунштрассе и в четвертую городскую школу. И при всяком удобном случае он старался мне всыпать.
Он кидал в меня камнями. Он подставлял мне ножку. Налетал на меня сзади, сбивая с ног. Подстерегал идущего, ничего не подозревая, своей дорогой, в подворотне, давал по шее и с торжествующим хохотом пускался наутек. Я бежал за ним, и, если мне удавалось его догнать, ему было уже не до смеха. Я не трусил. Но я его не понимал. Почему он меня преследует? Почему не оставляет в покое? Я же ему ничего плохого не сделал. Он мне скорее нравился. Так чего же он задирается?
Как-то матушка, которой я об этом рассказал, заметила:
- Он тебя царапал, когда вы оба еще сидели в детских колясках.
- Но почему же? - в недоумении спросил я.
Она задумалась. Потом ответила:
- Может быть, потому, что все тобой восхищались. Старухи, садовники, бонны, проходя мимо нашей скамейки, заглядывали в обе коляски и находили тебя не в пример красивее его. Ахали и охали, превозносили тебя до небес!
- И ты думаешь, он это понимал? Годовалый ребенок?
- Не слова. Но смысл. И тон, которым это говорилось.
- И он это вспоминает? Хотя ничего не смыслил?
- Может быть, - сказала матушка. - А теперь садись готовить уроки.
- Я давно приготовил, - ответил я. - Пойду играть.
И только вышел из дому, как споткнулся: Рихард Науман подставил мне ножку. Я помчался за ним, догнал его и дал ему в ухо. Вполне возможно, что он ненавидит меня еще со времени наших прогулок в детских колясках. Что он это вспоминает. И вовсе не задирает первый, как я думал, а только защищается. Однако это еще не значит, что я позволю подставлять себе ножку.