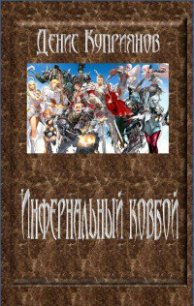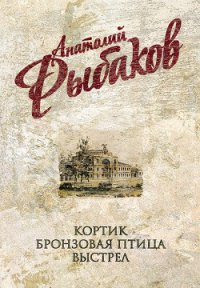Студенты - Гарин-Михайловский Николай Георгиевич (книги бесплатно без онлайн TXT) 📗
Брат напряженно сдвинул брови и искал ответа.
- Нет... если серьезно говорить, то ведь это только поверхностно... Ну, подразнить, что ли, иногда захочется...
- Нет, Тёма... громадная перемена.
Карташев пожал плечами.
- Может... - И, вздохнув, он прибавил: - А нехорошая штука жизнь портит людей.
Наташе еще тяжелее стало от слов брата. Она выпрямилась, точно хотела сбросить с себя эту тяжесть, и энергично проговорила:
- Нет, это пройдет... Ты опять будешь такой же идеальный... Но!
Она подняла свою лошадь в галоп, Карташев тоже поскакал с ней рядом и все думал о том, - действительно ли он переменился и в чем было то идеальное, чего теперь нет в нем, конечно.
Наступал вечер, в степи где-то замирала песня. Воздух звенел от кузнечиков, стрекотавших без умолку где-то близко по обеим сторонам пыльной дороги. По временам вдруг выше поднималась песня и звонко неслась по степи. Звонкий голос парубка пел:
Нехай кажут, нехай кажут,
Мусят перестаты,
Як уйду я на Украйну
Иншую шукаты.
Да, да, думал Карташев, и он уедет в Петербург, и прощай все прошлое... то далекое, милое...
Затихла песня, степь замерла в неподвижном очаровании вечера, сердце больно и сладко сжималось о милом далеком прошлом и так рвалось к нему...
Они молча доехали до усадьбы. Карташев как-то особенно любил в эти минуты свою сестру.
Он помог ей соскочить у подъезда с седла, и когда она встала на землю, он обнял ее и горячо поцеловал. Наташа тоже быстро, горячо поцеловала брата и с манерой матери, махнув рукой, быстро смущенно прошла в дом.
Карташев же, передав лошадей Грицько, пошел в сад и, гуляя по аллее взад и вперед, все думал о том, что он теперь большой уже. Через месяц он уедет в Петербург и будет жить новой, совсем новой, особенной жизнью. Там он будет другим человеком. Он станет серьезным, будет заниматься, будет ученым, - новый мир откроется перед ним, захватит его своим интересом, и забудется он в нем и потеряет все то, что пошлит людей, что берет верх над духовным только в пустой, бессодержательной жизни.
Карташев ходил, жадно и энергично вдыхал в себя ночной аромат старого сада, и когда его окрикнул с террасы Корнев, он весело и возбужденно ответил:
- Иду!
Из мягкой темноты он попал в яркую столовую, где сидели за чаем все и смотрели на него - Наташа, ласковая и повеселевшая, добродушный Корнев, мать, Маня. И все казались ему и оживленными и жизнерадостными, и он с наслаждением принял свой стакан чая, пил его и все думал о Петербурге, а когда кончил чай, подошел к матери и горячо поцеловал ей руку. Он был скуп на ласки и, как отец его, несообщителен на чувства, и этот поцелуй и удовлетворение его души передались матери и всем. Вечер прошел незаметно, все были в духе, в том настроении, когда все кажется таким уютным, когда так хорошо поются, в знакомой налаженной обстановке, грустные малороссийские песни. И Корнев с Маней их пели, а Карташев с матерью сидели на террасе. Аглаида Васильевна говорила сыну:
- Ты у меня умный, и добрый, и хороший, Тёма, и я не сомневаюсь, что господь благословит твою жизнь... Но, милый Тёма, поверь ты мне... Я много видела в жизни, и кому же, как не тебе, передать мне свой опыт? Помни, Тёма, что единственная опасность, которая грозит тебе, - это если увлечешься в Петербурге и попадешь в те кружки, откуда выход на эшафот, в каторгу...
- Мама!
- Все, Тёма, погибнет тогда... все! и ты и твоя семья, для которой ты радость жизни превратишь в тяжелое горе... такое горе, которого не выдержу я, Тёма.
Аглаида Васильевна, взяв руками голову сына, поцеловала его горячо в лоб. Разговор продолжался, но уже о молодых - Зинаиде Николаевне и Неручеве. У них не все шло так гладко, как хотелось Аглаиде Васильевне, и она жаловалась на Неручева.
В последний раз на другой день утром обходили Корнев, Наташа и Карташев сад, заглядывали в конюшню, прощались с лошадьми. Корнев смотрел на все равнодушно, как на что-то уже чужое для него, оторванное, к чему он не возвратится больше никогда. Там ждала другая жизнь, там в ней большая или маленькая, но его доля, и интересно было увидеть скорей эту свою долю.
Наташа была равнодушна, сдержанна и как будто рассеянна. Корнев иногда пытливо останавливал на ней взгляд, иногда по лицу его пробегало сомненье, но чаще он говорил себе: "Ерунда", - и старался держаться непринужденно, как человек, который и в мыслях не держит посягать на что-либо. Наташа же только видела его желание подчеркнуть это и всем своим образом действий как бы отвечала: но ведь и я не ищу ничего. И когда им удавалось убедить в этом друг друга, они оба еще более становились спокойными, равнодушными и скучными.
- Спойте на прощанье, - обратилась Наташа к Корневу, когда они возвратились в дом.
- Нет, не хочется... Надоело... Надоело все.
- Ну, вот уж скоро, скоро в Петербург, - ответила Наташа с своей обычной гримасой.
- Что ж Петербург? Я и от него ничего не жду. Высылать мне будут тридцать рублей в месяц, при таких деньгах не разживешься. Комнатка где-нибудь на пятом этаже да лекции... в театр и то не на что будет ходить.
- Уроки будете давать.
- Какие уроки? Нашего брата там, как сельдей в бочке.
- Но другие же дают.
- Дают, кому бабушка ворожит.
- Дают, кто брать умеет.
- Ну, кто брать умеет, - желчно и едко согласился Корнев, - а нам куда? Мы люди маленькие... уже подрезанные, готовые.
- Не говорите же так...
- Отчего не говорить? Истина тяжела, но еще тяжелее отсутствие сознания этой истины, Наталья Николаевна... Нет, уж лучше знать...
- Да ведь откуда вы знаете?
- Э-э! Знаю... Чувствую-с...
II
Карташевы приехали в город, и текущие интересы дня поглотили все их внимание. Карташева обшивали с ног до головы, как на свадьбу. Шили ему белье, платье, пальто, шубу. В пиджаке он будет ходить на лекции, в сюртуке в театр, к знакомым. Необходимо перчатки и pince-nez. Перчатки он купил, но pince-nez не решился и мечтал только о нем. Там, в Петербурге, он его купит. Он остригся, потому что при примерке нового платья все было новое, кроме старых волн его густых, не желавших держаться аккуратно, русых волос. Так как он требовал от портных, чтоб те шили как можно уже в талии, то платья его смахивали в конце концов на платье с младшего брата. Сам Карташев, впрочем, этого не замечал - его стягивало, как в корсете, он этого только и желал. Ему показались рукава длинными: недостаточно виднелись из-под них манжеты - ему обрезали и рукава.