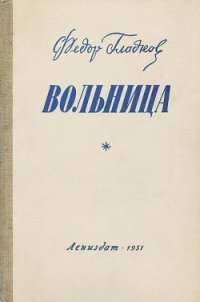Повесть о детстве - Гладков Федор Васильевич (читать книги онлайн полные версии txt) 📗
- Давай-ка споем с тобой все гласы. Дедушка-то утихнет, а утихнет всем станет хорошо. Я начну первый глас, ты - второй, я опять - третий.
И, не переставая шить, он запел тонким голосом, почти по-ребячьи:
- "Грядет чернец из монастыря..."
Я подхватил второй глас:
- "Навстречу ему второй чернец..."
Егорушка спросил участливо третьим гласом:
- "Откуда ты, брате, грядеши?"
Я ответил грустно:
- "Из Констянтина-града гряду".
- "Сядем, брате, побеседуем. - И спросил с живым упованием: - Жива ли там, брате, мати моя?"
Я изобразил глубокую печаль:
- "Мати твоя давно умерла".
- "Ох, увы, увы мне, моя мати!.."
Этот наивно-трогательный разговор чернецов считался священной основой молитвенного песнопения, и нарушение его житейской суетой было недопустимо, как грех. Чтобы ни случилось в избе, какой бы скандал или хлопотня ни происходили, стоило кому-нибудь запеть эти простодушные слова осьмигласия, сейчас же все замирали, как от грозного окрика или небесной трубы архангела.
Красное лицо деда в ворохе седых волос сразу же стало благочестиво-строгим. Он бросил шлею на пол, схватился за седую бороду и сокрушенно вздохнул:
- Окаянные, греха-то с вами сколько!..
Сытней с лукавой игрой в глазах поглядел на Егорушку и подмигнул ему и мне: ну, мол, и молодцы же вы, ребята!
Мать уронила веретено на пол и смотрела на меня с нежностью в лице и со слезами в глазах, а Катя по-прежнему сидела как каменная, уткнувшись лицом в гребень с шелковистой мочкой кудели. Когда мы кончили петь, дед умиленно, со старческой дрожью в голосе сказал:
- Хоть ты и щепотник, Егор, и Володимирыч тебя грехами опутал, а поешь божьи гласы, как человек праведной веры... В моленной ты пел бы как истинный гамаюн!
Егорушка безбоязненно уставился на деда и скромно, но с достоинством ответил:
- Мой папаша - чистый человек: он никого не обижал, никому зла не делал. Он мне не родной отец, а лучше отца.
Людям он всем родня, он себя не пожалеет, чтобы в беде человеку помочь.
Володимирыч шутливо трепанул его за волосы и притворно-сердито прикрикнул:
- Ну, ты еще молод судить да рядить о людях. За собой следи. Мы с тобой бродяги и троюродная родня двоюродному мерину. Расскажу я тебе, Фома Селиверстыч, такую вот быль. Стояли мы на Шипке, в Балканских горах.
Время было осеннее, а морозы трещали, как вот сейчас же.
Обмундирование плохонькое: шинелишка да дурацкая французская кепка, вроде шлыка с пятачком: на лоб напялишь - затылок голый, на затылок сдернешь - вся башка наружи. Много людей померзло да с голоду погибло. Места были дикие, приютиться негде: жили в палатках, в норках, да и у костров. А турки - внизу, в тепле, в селах да городках. Сдружились мы шестерка солдат - разной крови и разной веры: и русские, и татары, и литва, и болгары.
И был у меня дружок, башкир Фейзулла - прямо брат родной. Здоровый парень - быку рога свернет. Веселый, шутник, добрая душа. Мы с ним лазутчиками были и не раз ходили в разведки в турецкие места. И вот послал нас командир в тыл к туркам, к Казанлыку, к болгарам, - разузнать, что у турок делается. Проходим одну деревеньку, другую, третью - все ночком больше. У нас уж там и друзья болгаре были. Ну, конечно, турецкий караул снимаем...
- Это как - снимаем? - беспокойно вмешался Сыгней.
Он тоже забыл о работе, захваченный рассказом Володимирыча.
- Постой ты!.. - оборвал его отец, стараясь доказать, что он все заранее понимает и не нуждается в объяснениях, да и подшивка стелек дратвой - не менее важное дело, чем какая-то побасенка Володимирыча.
- Как снимали-то? - переспросил Володимирыч, втыкая иголку в овчину и поглаживая бачки. - А так... подкрадывались - и нож в спину... или мигом на землю и...
- Батюшки! - в ужасе вскричала мать.
А бабушка стонала на печи:
- Сколь на тебе крови-то, сколь душегубства-то! Не будет тебе прощения, Володимирыч...
- На то война! - усмехаясь, внушительно успокоил Володимирыч. - Мы солдаты. Ежели не мы их, они нас. Вон ваш Архип Уколов - тоже солдат, вместе с ним спроть турок воевали. Ногу там ему оторвало. И Сыгней тоже в солдаты пойдет. На войне солдат под смертью ходит
- Война - дело царское, - солидно разъяснил отец. - Без войны нельзя, а то народу много расплодится - совсем земли не будет.
А дед поучительно заключил с благочестивой суровостью:
- Война - по божьему произволению. Бойка еще до Адама дана: сам бог с дьяволом воевал и во ад его загнал.
Израиль воевал, а для Исуса Навина господь солнце и луну остановил. А мы с татарами воевали, француз на русскую землю наступал. Дедушка Селивсрст хорошо помнит, как нехристей мужики убивали.
- А ты вспомни, Фома Селиверстыч, - с веселой хитрецой заметил Володимирыч, - как Степан Тимофеевич Разин да Емельян Иваныч Пугачев с барами воевали. Крестьчнская была война, правильная война, из-за земли, против крепости. Емельян-то Иваныч и здесь, в наших местах, был.
Бабушка мстодым голосом с живостью пропела с печи:
- А как же... ведь Оленин-то куст и сейчас в Сосновке целый. На нем барыню Олёну пугачи повесиги. Дуб-то этот и не старится. Деауика-то Селиверст всем нам показывал.
На этом дубу сколь после мужиков перевешали! Да еще плетьми при народе тела-тс рвали . до костей . А у неких кишки из живых выматывали... Мотают, мотают, а те смеются: бают, щекотно больно..
- Ну-у, понесла кобыла, да лягнуть забыла - пренебрежительно оборвал ее дедушка.
Мне было приятно сидеть бок о Сок с Егорушкой и слушать Володимирыча Зачягно было следить и за взрослыми: они раскрывались передо мною по-новому. Мне казалось, что отец боялся Володимирыча больше, чем деда. Он ненавидел старого швеца и чуждался его, как будто прятался от него. А дед хорохорился перед Володимирычем и все старался показать, что он перед своим богом достойнее и праведнее швеца, что швец - не самосильный мужикошметок человечий, бездомник и нищий. Но я видел, что Володимирыч подавляй его своей мудростью и знанием жизни. Мне было обидно, что мать немела и тряслась перед дедом, что отец с трусливым озлоблением сносил его самодурство. А теперь и Катя вот согнулась и замолчала Сыгней и Тит, каждый по-своему, обманывали деда и всю семью: Сыгней пропадал из дому и выискивал всякие поводы, чтобы отлынить от работы по двору и не попадаться на глаза деду. Тит никуда не уходил и с парнями не знался, но у него была своя скрытая жизнь: он тоже исчезал внезапно из избы, но внезапно и появлялся. Я знал только, что он собирает всякие вещи и прячет их, что он даже тащит пуговицы, бляшки, подковы и всякие тряпки. Он был скупой, завистливый, и серые мутноватые глаза его подозрительно озирались. Я жил среди близких мне людей, которые не доверяли друг другу, считали "мирских" соседей огверженцами, а такого хорошего старика, как Володимирыч, и такого безобидного парня, как Егорушка, - погаными. А ведь Володимирыч всем помогал - и бабам по хозяйству, и мужикам в работе, и Егорушка не гнушался поработать на дворе: он часто вскидывал на плечо коромысло с ведрами и шел за водой вместо матери или Кати.
- Война-то война, други мои милые... - словоохотливо говорил Володимирыч. - Только она ке божье, а человечье дело. Разве это от бога, еже пи люди на войне тысячами гибнут, да еще в муках? За какие же грехи солдаты-то, - а ведь они мужики! - страдают? За что, к примеру, у Архипа ногу оторвали? А детей-то зачем убивают? Вот турки в болгарских деревнях всех жителей вырезали, а детей - за ноги да головками об стенку... Вступаем в деревню, а там все перебиты - и старики, и бабы, и ребятишки. Не бог, а жадность да зверство людское! Я на своей шкуре все претерпел, кровью плакал. Туг надо думать да думать...
- Это дьявол творит, - учительно перебил его дед. - Дьявол-то еще в раю ему гил человека. С бабы начал, а баба всегда с дьяволом вкупе.
- Нет, Фома Селиверстыч. Нехорошо ты говоришь, грешно думаешь. Женщина тебя родила, она - мать. У нас у каждого была родная кормилица. Неужто же наши матери прокляты, с дьяволом вкупе? А богородица как же? Мы ей, как страдалице, поклоняемся. Ежели у бабы не душа, так мы не стоим пи шиша.