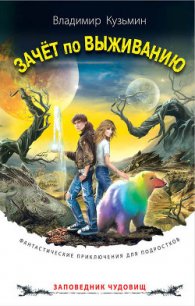Привет тебе, Митя Кукин! - Кузьмин Лев Иванович (книги хорошего качества .TXT) 📗
Мать говорит: «Работничек мой! Сейчас тебе помогу».
А следом набегают сестрёнки — Даша и Маша. В длинных шубейках, в толстых платках, они маленькие и неуклюжие, как медвежата, барахтаются рядом в сугробе, им весело, а потом они кричат:
«И мы поможем! И мы!»…
Каждый раз на этом месте своих воспоминаний Митя и взаправду видит, как с гамом, шумом, с толкотнёй к нему бегут по тропке малыши — все они в серых одинаковых пальтишках, в одинаковых шапках — и кричат;
— И мы поможем! И мы!
Но эти малыши — не Даша с Машей. И торопится за ними по хрустящему снегу не мама, а Павла Юрьевна. И Митя грустно вздыхает, но потом думает:
«Хорошо, что хоть они у меня есть. А потом, может быть, и мама с Машей-Дашей тоже найдутся…»
3
Охотнее же всего Митя Кукин возится в сарае, который из-за древности просел на все четыре угла и подслеповато щурится на интернат одним узким, прорезанным в толстом бревне оконцем.
Сарай интернатские с гордостью называют «наш конный двор!», но живут на «конном дворе» только белохвостый, с обмороженным гребнем петух Петя Петров и одна-единственная лошадь Зорька.
Зорьку ленинградцам подарил сельский Совет. Подарил нынешней зимой. Получать Зорьку ходил завхоз Филатыч, и это событие запомнилось детям надолго.
О том, что Филатыч сегодня должен привести лошадь, дети знали заранее, и все толпились в комнате у девочек возле двух широких окон, выходящих на поле, на дорогу. Смотрели на дорогу почти весь день и никак ничего не могли увидеть.
Но вот по вечерней поре, когда солнышко уже садилось и от закатных лучей снежное поле впереди интерната, крыши деревеньки на краю поля и вся санная дорога на этом поле сделались багряными, кто-то крикнул:
— Ой, смотрите! Конь-огонь! — А другой голос подхватил: — Конь-огонь, а за ним золотая карета!
Митя присунулся к окну, глянул и тоже увидел, что от голубого морозного леса по дороге рысью бежит золотой конь. Он бежит, а за ним не то скользит, не то катится удивительная повозка. Под вечерним светом она и в самом деле кажется позолоченной. От неё и от коня падает на багряные снега огромная сквозная тень, и на тени видно, какая это странная повозка. Внизу — полозья, чуть выше — колёса со спицами, а над колёсами — плоская крыша, как это и бывает у всех сказочных карет.
А всего страннее то, что седока в повозке не видно. Конь по дороге бежит словно бы сам, им никто не управляет.
Дети кинулись в коридор к вешалке, стали хватать пальтишки. Кто-то запнулся, упал. Кто-то из малышей заплакал, боясь опоздать.
А рослый Саша протянул руку через все головы, сорвал с вешалки свою и Митину шапки, и они первыми выскочили во двор, на холод.
Золотой конь уже приворачивал с дороги к распахнутым воротам. Конь входил в темноватый под соснами двор интерната, и был он теперь не золотым, а мохнато-серебряным. На его спине, на боках, на фыркающей морде настыл иней.
— Тпр-р-р… — донеслось изнутри странной повозки, и повозка остановилась у крыльца, и это оказались всего-навсего обыкновенные сани-розвальни, на которых стояла летняя телега с неглубоким дощатым кузовом.
— Тпр-р-р! — повторил голос. — Приехали. — Из широких саней, из-под телеги медленно вылез бородатый Филатыч. Лоб, щёки, нос у него от холода полиловели. Маленькие, по-старчески блёклые глазки радостно моргали. Он прикрутил вожжи к высокому передку саней и, заметая длиннополым тулупом снег, прошёл к голове лошади. Он ухватил её под уздцы, победно глянул на толпу ребятишек и с полупоклоном обратился к заведующей:
— Ну вот, Павла Юрьевна, принимай помощницу. Зовут Зорькой. Дождались мы с тобой, отмаялись!
Он дружелюбно хлопнул рукавицей Зорьку по гривастой шее. Зорька фыркнула, вскинула голову. Павла Юрьевна отшатнулась, на всякий случай загородилась рукой. Она, человек городской, питерский, лошадей немного побаивалась. Но потом укрепила пенсне на носу потвёрже и медленно, издали обошла Зорьку почти кругом. Встала и, довольно покачивая из стороны в сторону головой, восторженно произнесла:
— Как-кой красавец! Это намного больше всех моих ожиданий. Вы только посмотрите, товарищи! Это же великолепный конь, вы согласны со мною, товарищи?
Она опять повела головой, выставила вперёд ногу в растоптанном валенке и широким жестом показала ребятишкам на Зорьку.
— Согла-асны… — нестройным хором протянули «товарищи», все разом утёрли ослабшие на холоде носы, а Саша Елизаров сказал:
— Буэнос бико! — Это должно было означать по-испански «Славный зверь!».
Филатыч засмеялся:
— Да что ты, Юрьевна! Разве это конь? По-нашему, по-деревенскому, это просто кобылка, да ещё и жерёбая… С приплодом, так сказать.
Павла Юрьевна удивлённо глянула на старика и осуждающе нахмурилась:
— Ну-у, Филатыч… Что за слова? При детях!
— А что слова? Хорошие слова… Кобылка — она и есть кобылка. Скоро нам жеребёночка приведёт. Махонького. Гривка и вся шёрстка у него будут мягонькие, пушистые, так и светятся. Жеребёночки завсегда рождаются такими.
Ребятишки, услышав про жеребёночка, счастливо засмеялись. А Митя шагнул к лошади, протянул ей раскрытую ладонь. Лошадь опять мотнула головой, звякнула железными удилами, как бы освобождаясь от уздечки, за которую держался старик. Филатыч узду отпустил, и Зорька ткнулась мягкими губами в ладонь Мити. По ладони пошло тепло.
Митя так весь и задрожал от радости и ответной нежности, а Филатыч удивился:
— Вот так да! Признала мальца… А мне сказали: «Маленьких она любит не шибко». Ну что ж! Если разрешит начальство, быть тебе, парень, в конюхах, в моих заместителях. А то я один-то теперь не управлюсь.
Митя, не отнимая от Зорькиных губ ладони, с такой надеждой и мольбой глянул на «начальство», на Павлу Юрьевну, что она сразу закивала:
— Да, да, да! Пусть будет, пусть будет. Я всегда говорила, Митя Кукин человек надёжный, и лошадка это, видно, тоже почуяла.
Вот так и началась Митина дружба с Зорькой, которая сразу стала самой настоящей кормилицей и поилицей всего интерната. На Зорьке возили дрова, воду, на ней ездили на полустанок Кукушкино в пекарню за хлебом и там же, на полустанке, забирали почту.
Раньше всё это Филатыч доставлял в интернат с великим трудом на случайных колхозных подводах, а теперь лошадь была своя, и хозяйственные дела у Филатыча пошли веселее.
А дел у старика было полно. Он не только ездил в Кукушкино, он выхлопатывал в дальнем леспромхозе для интерната лес на топливо; подшивал ребятишкам «горящую, как на огне», обувь; чинил столы, скамейки, парты; латал обрезками фанеры и тонкими дощечками разбитые окна — и как он со всем этим управлялся, понять было невозможно. Ведь у него и у самого в деревне было какое-то хозяйство.
Это он в первую военную, страшно тяжёлую зиму, когда отощавших ребятишек чуть ли не качало ветром, а Павла Юрьевна совсем было слегла, — это он, старый Филатыч, можно сказать, спас от погибели весь интернат.
Он сам, вместо Павлы Юрьевны, дошёл до всего сельского начальства, и в интернат стали каждый день безо всяких перебоев отпускать из колхоза молоко и прислали овощей для приварка. А пока шли хлопоты, Филатыч в котомке перетаскал из дому, из деревни, в интернат почти все собственные запасы картофеля и поддерживал этим картофелем ребятишек до тех пор, пока не наступили времена получше.
На робкий вопрос Павлы Юрьевны, не трудно ли ему, он однажды только и ответил:
— Мы, матушка Павла Юрьевна, к трудностям приучены сызмальства…
Когда же Павла Юрьевна сказала, что за картошку интернат ему заплатит, то Филатыч страшно рассердился:
— Не выдумывай, не возьму… Это я, считай, в фонд обороны внёс. Наши деревенские на целый боевой танк собрали, я тоже на танк вносил. Так что, мне теперь и за это денег требовать? Эх ты, Павла Юрьевна! А ещё питерская… Обижаешь, матушка, меня.
Павла Юрьевна даже покраснела:
— Простите, ради бога! Я ведь только и хотела сказать, что вам тяжело со всеми нашими делами одному управляться.