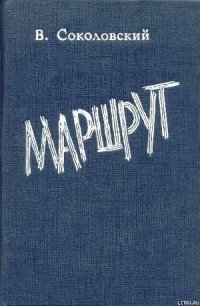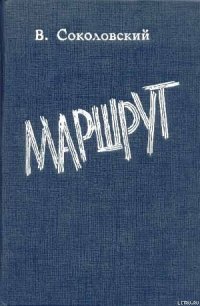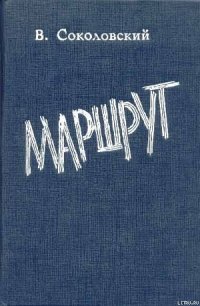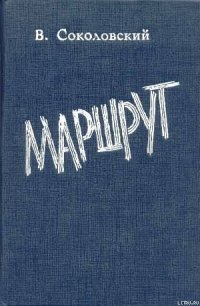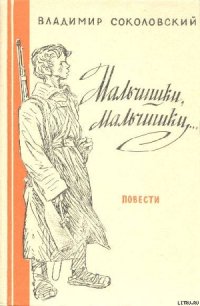Ребячье поле - Соколовский Владимир Григорьевич (читать книги бесплатно TXT) 📗
Теперь надо было выбрать бригадиров. Дело ответственное!
— Давайте, предлагайте, — сказала Олёна.
Поднял руку Иванко Тетерлев:
— В бригаду четвероклассников надо меня бригадиром выбрать. Я работать во как люблю и всех других заставлю. Я и учусь хорошо.
— Сам себя похвалил! — засмеялись одни ребята.
— А что, Иванко правильно говорит! — сказали другие. — Он шибко работящий. И учится ударно.
Груня Жакова воскликнула:
— Тетерлев для бригадиров неподходящий. Вы у него когда-нибудь что-нибудь пробовали попросить? Никогда, ни за что не даст, хоть у него и есть, и самому не нужно. Он жадный! А нам жадных бригадиров не надо. У нас бригадиры пионерские, мы ничего другим жалеть не должны, наоборот, помогать, если кому трудно будет.
— Списывать тебе не даю, вот ты и шумишь, — заворчал Иванко.
Однако Груню поддержало большинство ребят:
— Верно она сказала! Иванко жадина, только для себя старается!
И бригадиром четвероклассников выбрали Артёмка Дегтянникова, а третьеклассников — толстенького, рассудительного Максимка Мелехина. Старшей над второклассниками решили поставить пионерку Груню Жакову.
Стало темнеть, и ребята видели, как к окраине села прошли несколько мужиков с ружьями: в Лягаево был крепкий отряд самообороны, регулярно выставлялись ночные посты — в округе ходила и безобразничала банда конокрада Гришки Распуты, Григория Никонова из деревни Прошино. Убивали сельчан, устраивали поджоги. Появляться к лягаевским мужикам они побаивались и дела свои творили обычно в мелких лесных деревеньках, где и народу было поменьше, и менее он был организован. Однако осторожность в таких делах не помешает, и ночами люди выходили в караул.
Из сарая, где шла репетиция, доносилось:
гудел плотник Ониська.
Дездемону играла Муся Жилочкина.
— Не надоест им! — вздохнул толстенький Максимко. — Толмят и толмят одно каждый вечер. Я бы задавился, кажись, от такой жизни.
— Так то ты! — сказала Груня Жакова. — А мне вот беда как нравится, ребята-матушки. «Какой-то ураган в твоих словах, но не слова…» Я уж ходила к ним, просилась, а они — дескать, подрасти еще надо…
Вдруг рядом кто-то истошно заревел. Это Трофимко плакал, размазывая слезы, подтирая под носом. В темноте светленькими пятнами выделялись его лицо да белые лапоточки.
— Ты чего?
— Ой, я боюсь Боболя! Он страшный, придет сейчас из леса и заберет меня к себе!
Тявка сидела рядом, горестно поскуливала.
Олёна подошла, погладила мальчишку по голове:
— Не плачь, Трофимко, не плачь, маленький. Боболь только с виду страшный, а так он добрый. Все свою жену собирался набить, да так и не смог. Это мне бабушка Окуля рассказывала.
Где-то звонко тукала сторожевая колотушка, да голоса бубнили внутри сарая. Трофимко затих, поднялся следом за братом, взял его за руку.
— Что их ждать, учительниц! — сказал Артёмко. — Мы им и завтра в школе все скажем. А нам надо домой идти, а то мамка с тятькой ругаться будут.
Остальные ребята тоже начали вставать.
— Ступайте, ступайте! — напутствовала их Олёнка. — Я их одна подожду и все расскажу. Я бабушке сказалась, что поздно приду, она меня искать не будет.
Ребячьи фигуры рассеялись в темноте, и Олёнка-председательница осталась одна. Она села на бревнышко, вытянула ноги и стала смотреть на небо с чистыми майскими звездочками. Вон та звезда, наверно, висит над Кочевом, а та небось над самим Кудымкаром. О том, что на свете существуют и другие, еще более дальние края, Олёнка знала, но как-то боялась, оставаясь одна, об этом думать. Неужели вправду, как говорит учительница Марья Ивановна, вся земля — огромный шар и везде на этом шаре живут люди?

4
Олёнкина отца, Игната, убила на пашне молния, когда девочке был всего год от роду. Остались они вдвоем с матерью Оксиньей и жили у Игнатовой матери, бабки Окули, доброй, крепко тужившей после смерти единственного сына старухи. И Оксинья плакала, плакала два года, да что делать! А годы молодые берут свое. И вот в весенний праздник вышла она как-то из избы на полянку перед домом и запела веселую песню, заплясала, взмахивая подолом красного сарафана.
Подошли лягаевские бабы, засудачили:
— Что ты, Оксинья? Разве дело весело петь и плясать одной на людях детной бабе, не молодке?
Перестала Оксинья петь и плясать.
— Что же делать мне, бедной, без милого мужа, перед кем спеть веселую песню, сплясать, показать красивый сарафан? Чтобы похвалил меня, посмеялся вместе со мной. Никого близь нету, кроме дорогушечки моей Олёнушки!..
Заплакала горько и бросилась обнимать стоящую тут же белоголовую дочку. Бабы поохали, поразводили руками и разошлись по своим избам.
А осенью к Оксинье посватался вдовый бездетный мужик Аким и увез ее с Олёнкой к себе, на дальний лесной выселок.
Аким оказался неплохим человеком: добро смотрел на Олёнку, усмехался ее проделкам, мастерил из дерева свистульки, вырезал игрушки, куколок. Только вот беда — больно уж был молчалив. Привык, видно, что в глуши, где он живет, порою и не с кем перемолвиться словом.
И мамка Оксинья, хоть ей нравилось житье с Акимом, тоже стала молчаливая, как и он, перестала петь веселые песни.
С весны до зимы Аким жил на земле: сеял хлеб, держал огород, занимался сенокосом. А лишь выпадет снег — все, снова настала для Олёнки скучная, тоскливая пора. Отчим с матерью берут ружья, надевают лыжи и уходят далеко в лес, на охоту. Когда-то придут!
Вот и сидит Олёнка в избе вдвоем с котом Пимом. Поиграет в своих куколок, походит от окошка к окошку, подышит на стекла. Т-р-р! Бум-м-м!.. — вдруг послышится из леса, полетят шапки снега с высоких елок. Это лесной человек, Яг-Морт, бродит около дома. Страшно Олёнке! Прижмется она к пушистой щеке кота и шепчет:
— Пимко, Пимушко, поймай мышку. Будем с ней играть, веселей станет, ей-право…
Толстый Пимко только фыркает или мяукает в ответ. Что ему мышка! И так дает хозяйка каждый день теплое жирное молочко. Старый, ленивый.
Поскучала так Олёнка два года, а потом запросилась жить в Лягаево, к бабушке Окуле. Аким с женой потолковали, повздыхали: больно хорошая, работящая растет помощница! — но отвезли девчушку. Тоже не дело: одна да одна! Надо немножко ведь и с ребятами поиграть, на людях побыть.
А у бабушки Окули хорошо. Бабка добрая, все умеет: и пирог испечь, и дрова распилить, и огород поправить, и сказку рассказать, и песню спеть. Открыла сундук, вытащила старые свои сарафаны, нашила Олёнке платьев: ходи, внучка! А среди сарафанов были и те, в которых она еще незамужней бегала. Ожила у бабки Олёна.
И как пришла пора в школу идти, выручила ее бабка. Аким с Оксиньей не хотели, чтобы девчушка училась: что бабе, мол, за нужда — уметь читать, писать да считать! Мужику — ну куда еще ни шло, вдруг на базар поедет или расписаться где-то надо. И то — баловство! Женское же дело — хозяйство, и нечего забивать голову грамотой. Особенно Аким противился отдаче Олёнки в школу: он вообще, живя всю жизнь в лесу и мало видя людей, не разумел в учении никакого проку. Однако бабка Окуля ударила по всем его доводам:
— Ты, Акимко, если сам глупой, так других людей в этот грех не вводи. И не хвастайся невежеством-то своим! Твой дед с отцом сухим пням молились, деревянным богам губы медвежьим салом мазали. Подумай-ко, Акимко, сколь ты невежа! Нет, или я отдам девку в школу, или больше не получите ее у меня! Они ведь там не только учатся — и играют, и бегают вместе. А она — сиди дома, глазей на них, точи слезы, да? Ну так будет не по-вашему, а по-моему!