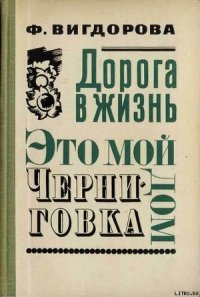Семейное счастье - Вигдорова Фрида Абрамовна (лучшие книги читать онлайн бесплатно txt) 📗
Поливанов рассказывал, и ему казалось, что рассказывает не он, а кто-то другой. Слова ему не повиновались. Что это значит "видимость хорошая"? Он помнил до мелочи все, что видел в ту минуту: дорога, кухня, немцы стоят в очереди с котелками. Все как на ладони — лицо, котелок, автомат. А когда летели назад, увидели железнодорожную станцию и штук восемь автобусов.
— Такой цели Сергей пропустить не мог, сам понимаешь… И так мы вошли в азарт — четвертый заход, пятый, Сергей в развороте, — я по ним стреляю. И в горячке перестали следить за воздухом. И вдруг в хвосте — "мессер". Сам знаешь, где один "мессер", там и второй. Один "мессер" дал по кабине, другой повторил. Скорость гаснет, до земли метров семьдесят. И прыгать уже нельзя… Бац!
Поливанов снова, как тогда, услышал голос Сергея: "Помоги!", услышал запах гари — горела кабина, горели унты. Хвост придавил кабину, Поливанов сорвал колпак, вскочил на крыло. Он отстегнул ремни, вытащил Сергея, а к ним уже бежали немцы. Самолет упал прямо в расположение немецкой танковой части, на брюхе подъехал к самому караульному помещению.
Поливанов рассказывал, держа в руках стакан. Он больше не пил, ему хотелось рассказать все как можно точнее. Он говорил:
— Вот так мы попали в плен… — и видел немца, который их обыскивал; немец испачкал руки в крови и вытер и об белый свитер Сергея.
И этот белый свитер с отпечатками крючковатых красных пальцев все стоял у него перед глазами и мешал, как мешает кость, застрявшая в горле. Самое трудное было рас
Сказать про машину. Их вез в машине жандарм. У него в руках был автомат, он направил его в грудь Сергею. У шофера — меховой воротник, — ножом не пробьешь (в унтах остался кинжал, при обыске не нашли), да и кабина маленькая, не размахнешься. Поливанов думал тогда: я ударю, жандарм даст очередь — и прямо в Сергея. Если автомат взведен, а он наверняка взведен. Иначе зачем бы жандарм держал его на изготовку? Минута была упущена, — он и сейчас вспоминал об этом, презирая себя, — он упустил минуту: навстречу патруль, парный патруль, и еще, и еще! Выехали на поляну, к освещенному зданию. И тут, у крыльца, жандарм ухмыльнулся в лицо Поливанову: отсоединил от автомата магазин — патронов в магазине не было. Поливанов все это пережил и увидел вновь, а Леше сказал так:
— Потом нас привели в штаб. Там уже встречали Новый год — орали песни, топали. — "А если опрокинуть стол? Если ударить по лампе?" — подумал он тогда. — Потом нас отвели в сарай…
Часовой сидел на пороге, отложив винтовку в сторону. Он вошел в сарай вместе с Поливановым и Сергеем и так же лениво, как прежде, сел в угол. И вдруг, встретившись с Поливановым глазами, вскочил, схватил винтовку и встал у дверей с озверевшим лицом. Поливанов увидел себя в этом лице, как в зеркале.
— Мы лежали с Сергеем, молчали и думали про одно."
— Бежать?
— Бежать. Понимаешь, ни сговориться, ни сообразить вслух — ничего.
Поливанов умолк. Леша в сумерках видел заострившееся лицо, желваки на скулах. Смотрел и мучился за него, не зная, как помочь ему договорить. А Поливанов тоже не знал, как говорить о том, что было дальше. К вечеру вошел пьяный офицер — у него были злые шустрые глазки, уши, как лопухи. Он долго водил пистолетом по Митиному затылку и сопел над ухом. Потом ушел. А Поливанов все время думал об одном: в магазине не было патронов. И у шофера не было оружия. А он упустил минуту. Оттуда, где пировали немцы, слышалась музыка. И вдруг рояль умолк, и кто-то завел пластинку. Стало трудно дышать — это был вальс из "Огней большого города". Поливанов стиснул зубы и, закрыв глаза, увидел московскую улицу, мокрый асфальт, ощутил тепло Сашиной руки в своей руке. Кто-то заводил пластинку вновь и вновь — это был удар из-за угла, от него Поливанов не успел защититься. Лежа на земляном полу рядом с Сергеем, он вспоминал нот эту ташкентскую комнату и спящую Сашу, следы слез на ее щеках и потом ее сонный голос: "Но ведь это не правда…"
— Не скажу тебе, сколько времени прошло, — заговорил Митя наконец. — Только часовой вдруг встал, выше ли защелкнул замок снаружи. Мы услышали, как он потопал куда-то. Чуть подождали — никого нет. Раздумывать было некогда, я выломал две доски в стене, и мы вылезли. Верхнюю одежду оставили — ползли в одном белье, на снегу не так заметно. Сергею было трудно, в плече засела пуля, потерял много крови. Но сам понимаешь, выхода не было — либо пан, либо пропал. В какую сторону ползти, — Сергей понимал. Он много летал над этими местами. Ползли мы вдоль торфяного болота. Так вдоль болота мы к рассвету доползли до хутора. Смотрю, окно чуть светится. Рискнули — постучали. Повезло, свои люди. Дед такой сивый — обогрел, накормил и дал вот этой самогонки твоей. Да…Передохнули и опять поползли. До линии фронта было с десяток километров…
Когда переползали ручей, подломился лед. Поливанов взял Сергея и потащил. Белье обмерзло, затвердело. Еще метр, еще…
— Что долго рассказывать — на третий день были у своих. Отвели нас в штаб одного пехотного полка. И тут началась проверка. Сергея сразу положили в госпиталь, там ид опрос снимали. Ну, я своим чередом все рассказал, а мне: ничто не может заставить офицера Красной Армии сдаться в плен. Но мы же не сдались! Лешка, ты-то понимаешь? Я выскочил и первое, что сделал, — вытащил Сергея, он бы сгорел в кабине. Обернулся — мы в кольце…
Лучше бы не вспоминать. Все это было, как подо льдом. Пусть бы так и осталось. Зачем ворошить? А разве ты ворошишь? Ты это всегда помнишь. И лицо того, кто допрашивал, и его голос: "Скажи, чего ты наобещал немцам? Если бы ты не подписал никакой бумаги, тебя бы не выпустили". — "Нас не выпустили, мы бежали". — "Если не признаешься, закатаем тебя…"
— На третий день я отказался отвечать ему. Я просто молчал. Это продолжалось два месяца. Потом приехали из Политуправления, установили мою личность и выпустили. А потом было сказано: "Все в порядке, к вам никаких претензий, но плен есть плен. Мы бы предложили вам пока поработать в тылу". Нет, это уж спасибо. Подал рапорт, чтобы отправили в часть. И стал я пехотным командиром взвода. Не успел толком со взводом познакомиться — контузия. И вот демобилизовали. Вчистую. Мне уже туда не вернуться. Понимаешь? Не вернуться. А мне надо быть там. Только там. А я здесь. Вот так бесславно и кончилась моя война. Сижу здесь, как тыловая крыса.
— Не повезло. Ничего не скажешь — не повезло тебе. А где твой летчик?
— У него дело лучше пошло. Вылечили — и в своем полку летает. Может, и Героя уже получил…
Ну вот он и выложил все. Но он-то знал, что главное осталось за пределами его рассказа. Главное — тот голос: "Что ты наобещал немцам?" Главное — вежливые слова в Политуправлении: "У нас нет к вам никаких претензий, но плен есть плен". Он знал — был только один способ разделаться с этим: вернуться в строй не с киноаппаратом в руках — стрелком-радистом, в пехоте, как угодно, но только быть со всеми до конца. Не вышло.
Расскажи он и это, он бы рассказал почти все. Теперь он знал наверняка, что рассказывать не нужно. Это не приносит облегчения. Слова не подчиняются, не повинуются, все, что ты думал, все, что хотел сказать, так и не облеклось в слово, все осталось с тобой и давит тебя по-прежнему. Или теперь полегче? Или это только кажется?
Саша застала Митю и Лешу в полной темноте, Она зажгла огонь — в комнате стоял дым столбом, на блюдце — гора окурков.
…А на следующий день они провожали Лешу. Еще совсем недавно, мальчишкой, он стоял рядом со своим мелитопольским поездом и, впервые уезжая из дому, глядел на всех чуть испугано — такой неуклюжий, долговязый и нескладный. А теперь пилотка лихо сидит на круглой, коротко остриженной голове. Сияет наутюженный Анисьей Матвеевной и пришитый Сашей подворотничок. И молодое лицо стало тверже, уверенней, и забота на нем другая. Саша старалась не смотреть на Митю, ей было страшно. Лишь раз мельком взглянула на его злое лицо — и отвела глаза.
Поезд тронулся. Саша пошла следом, ловя глазами улыбку брата. И вдруг сквозь стук колес, сквозь топот других бегущих ног она отчетливо услышала, вернее, угадала знакомый шаг — это был Митя. Он взял ее за руку. Не стало поезда, не стало толпы.