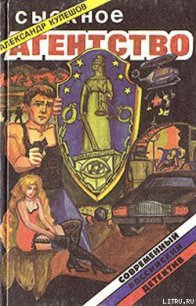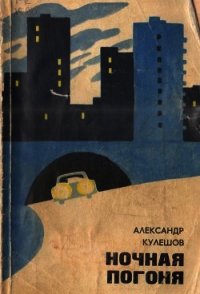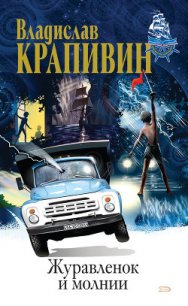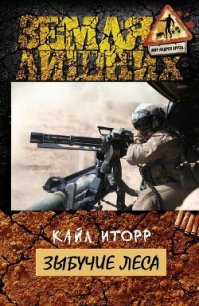Голубые молнии - Кулешов Александр Петрович (книги читать бесплатно без регистрации .TXT) 📗
А Хворост ходит гоголем! Хоть бы что. Сначала я подумал — ладно уж, все-таки сколько километров с Щукарем меня тащили.
Потом решил: подумаешь, большое дело. А я как бы на его месте поступил? Да и любой другой! Так что он таки свинья. Факт!
Нога прошла.
Завтра в увольнение. Увижусь с Таней. Вечность прошла, как мы с ней виделись. По-настоящему. Потому что вообще-то мы виделись: я ходил в медсанбат ногу лечить, и там мы несколько раз поговорили. Но какие в медсанбате свидания!
Мама пишет, что отец ставит спектакль и требует ее постоянного присутствия. Так что пока она приехать не может, и чтобы я не огорчался. Я-то понимаю, в чем дело: это отец меня выручает, такой прием придумал. Молодчага!
Эл тоже разразилась длинным посланием. Она ждет, она скучает, она вспоминает, она мечтает…
Надо отвечать. Лень.
Маме послал телеграмму: «Все хорошо, здоров, счастлив». Эл: «До встречи московскими небесами».
Владу написал:
Здорово, старик!
Солдат спит — служба идет. Привык. Больше того — увлекся. Тебе, наверное, не понять. Увидимся, объясню, Оказывается, в армии, во всяком, случае в десантных войсках, романтики хоть отбавляй.
Не ошибусь, если скажу, что в «Метрополе» ее меньше. Когда попадаешь в армию, да еще после моей жизни, то сначала дело плохо. Тут, видишь ли, никто тебе кровать не стелет, ножки не моет, на стол не подает. Здесь все все делают сами: драят полы, пришивают пуговицы, чистят ботинки. Здесь становишься поваром, столяром, портным, землекопом, грузчиком.
Кроме того, есть здесь такая штука — называется дисциплина. Ты об этом и понятия не имеешь. Представь: надо рано вставать, ходить строем, слушаться старших, жить по расписанию. Словом, для тебя как бы жить на Марсе.
С непривычки это трудновато. Заметь, не всем. Оказывается, есть такие, кто всю жизнь так живет. Трудновато таким, как мы с тобой. Потом привыкаешь, все проходит, и удивляешься, как это спал до полудня или не обтирался снегом по утрам.
И тогда начинаешь ощущать плюсы армейской жизни..
Например, прыжок с парашютом. Ничего, это я твердо тебе говорю, ничего на свете не может сравниться с тем, что испытываешь после того, как раскроется купол! Это даже описать невозможно! А походы, ночью, в лесу! А радость, когда влепишь все пули в мишень! А какие мы тут всякие интересные науки изучаем. — мир новый открываешь!
Ну, а мог бы ты, например, хоть мы и кореши, тащить меня на себе несколько километров снежной целиной? Надо еще подумать! Да? А вот тут для ребят это так же естественно, как дышать. Понимаешь? Да нет, не понимаешь…
И, между прочим, мы здесь и язык изучаем, и. книги читаем, и фильмы смотрим, и даже обсуждаем их. И эрудиты тут есть будь здоров!
Вот так. Не считай меня пропащим. И еще имей в виду, я трезвый. Если пишу тебе так, — значит, так и есть…
Глава XVIII

Я отправляюсь в Москву.
Поощрение.
Десятидневный отпуск, не считая дороги. Почему именно я? Ну если б Сосновский — понятно. Он лучший из лучших. А я чем лучше Дойникова, Щукаря? Вообще-то я догадываюсь: старший лейтенант Копылов и старший лейтенант Якубовский отправляют меня на свидание с Москвой, с матерью, с друзьями, чтобы я окончательно проверил себя.
Чтобы решил, с кем я.
Зря беспокоятся — я здесь. С ними. С ребятами. С Таней. Но вот про Таню-то они не знают. Если б они хоть раз видели нас вместе, не пришлось бы отправлять меня в отпуск.
Она встретила известие о моем отпуске именно так, как я предполагал. Господи, до чего ж я ее теперь хорошо знаю! Но шел к ней все же с тревогой. От нее всегда можно ждать любого сюрприза.
Сейчас войду, думал, этак небрежно упомяну про отпуск. Она небрежно спросит, надолго ли. Отвечу, что дня на три. Она скажет: «Ну-ну»…
Пришел. Ужинают, Таня и обязательная, как вечерняя поверка, Рена. Конечно, в халатике. И, конечно, говорит: «Ой!» Но не уходит. Таня мрачнеет.
Тут я небрежно говорю:
— Между прочим, отпуск мне дали. В Москву.
Лицо Тани каменеет, становится бесконечно равнодушным и скучающим.
— Да?.. — тянет она небрежно. — Что ж, это неплохо. Надолго?
— На три месяца, — говорю я и намазываю себе колоссальный бутерброд.
— Ой! — опять вскрикивает Рена.
Таня мгновенно оборачивается. Губы сжаты. Глаза сверкают. Она смотрит на меня, будто сверлит. Наконец тихо-тихо, почти шепотом, спрашивает:
— На сколько ты сказал?
Смотрю на нее невинным взглядом Дойникова.
— На десять суток. А что?
— Ох… — облегченно вздыхает Рена.
Лицо Тани молниеносно меняется. При взгляде на него можно уснуть — такая на нем написана скука.
— Ну-ну, — роняет она.
Тут Рена вспоминает о невымытой посуде, недочитанной книге, недошитом платье и исчезает.
Мы остаемся одни.
И тогда происходит то, чего я никак не ожидал.
Таня начинает плакать.
Очень тихо. Просто она вынимает откуда-то крохотный платок и промокает им глаза. И шмыгает носом.
Я никогда не видел ее плачущей. Мне даже в голову не приходило, что она умеет плакать.
Стою растерянный. Наконец наливаю в стакан воду и подаю ей. Так, кажется, всегда делают в подобных случаях.
Таня отстраняет мою руку.
— Спасибо. Пей сам…
— А чего ты плачешь? — говорю, — Что случилось?
— Ничего, — отвечает, — абсолютно ничего. Это я от радости.
— Какой радости?
— Ну как же. Радуюсь за тебя.
Я сажусь на диван, обнимаю ее за плечи (она тут же отстраняется).
— Таня, — говорю очень твердо, в высшей степени твердо, — это смешно. Мы здесь по неделям не видимся. Десять суток — ты и заметить не успеешь.
— До чего ж ты глупый все-таки… — Она смотрит на меня с сочувствием. — Ну при чем здесь срок? Думаешь, услали бы тебя на три месяца на учения, я огорчалась? Веселого мало, но не огорчалась бы. Мы люди военные…
— Ничего не понимаю…
— То-то и оно. Здесь совсем другое дело!
— Почему? — спрашиваю.
— «Почему, почему»! — Теперь она не плачет, возмущается: — Как ты не можешь понять? Москва, старые друзья, компании, рестораны, Эл этот твой…
— Слушай. — Поднимаю с дивана, зажимаю ей щеки ладонями и смотрю прямо в глаза. — Слушай внимательно и постарайся понять. Если начальство не боится, что, окунувшись в столице в омут кутежей, я застряну там, то уж от тебя-то я куда денусь?
Таня обнимает меня. Примирение состоялось. Мы продолжаем ужин. Начинается серьезный разговор.
— Знаешь, Татьяна, — говорю я (Татьяной она именуется в особо ответственные минуты), — меня мучает одно обстоятельство: как-то неловко получается. Копылов — твой друг, мой начальник… И ничего не знает… В какой-то момент может возникнуть недоразумение… Словом, ты понимаешь.
Таня улыбается.
— Ну если только это тебя волнует… Все очень просто, — говорит. — Завтра ты уедешь, и я скажу ему, что мы женимся. Ты отправился к маме за благословением.
Молчу.
— Может, я что не так сказала? — Подчеркнутое беспокойство. — Или ты не согласен? Ты не расслышал? Я официально предлагаю тебе руку и сердце.
И смотрит на меня. Я отмахиваюсь.
— Тебе только шутить, — говорю. — Серьезно, надо как-то решить этот вопрос. Подумай, ведь чистая случайность, что Копылов до сих пор не застал меня здесь…
— Ну хорошо, не будем ждать десять дней. Пойдем скажем ему сегодня.
И смеется. Я тоже. Потом перестаю смеяться. Вдруг понимаю, что она не шутит, что она меня очень любит и очень хочет, чтобы мы поженились.
Пристально смотрю на нее. Она краснеет и отворачивается к спасительному окну.
…Когда утром поезд наконец трогается, я ложусь на свою верхнюю полку плацкартного вагона и устремляю глаза в потолок.