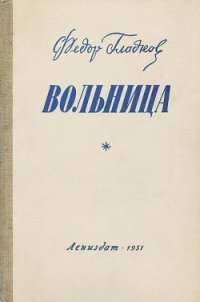Повесть о детстве - Гладков Федор Васильевич (читать книги онлайн полные версии txt) 📗
Мать долго не отрывалась от окна и плакала. Слезы текли по ее щекам, и она не вытирала их. Лицо ее застыло в скорбной покорности. И мне было непонятно, почему она так горестно плачет, когда сама у бабушки Натальи настаивала, чтобы выдать Машу за Фильку Сусина. Многие годы мучил меня этот вопрос, и только потом, когда пришлось пережить много испытаний и перемучиться тяжелой судьбой матери, я постиг, что мать плакала не только над загубленной молодостью Маши, но оплакивала и свою горестную жизнь. А Маша сейчас даже к окну не повернулась: сестра стала для нее смертельным врагом.
Попа привезли из Ключей, и он в нетопленной и промороженной церкви, с епитрахилью на шубе, быстро окрутил молодых, несмотря на то что Маша кричала на всю церковь.
Дня через два Маша убежала от Фильки. Максим со старостой Пантелеем, с сотским и Филькой бросились к Ларивону, но там ее не нашли, у бабушки Натальи тоже ее не было. Ходили и на барский двор, но барыня строго отчитала их: как они смели явиться сюда, как смели подумать, что Маша скрывается здесь! Если бы она пришла сюда, ее немедленно отправили бы в дом мужа.
Отыскали Машу через сутки у горбатой бобылки Казачихи. Спряталась она в амбарушке, в пустой бочке, под рухлядью. Староста проводил Казачиху с сотским в жигулевку На шею Маши надели вожжи, и Максим повел ее по всей длинной улице домой, а Фильку заставил подгонять ее хворостиной. Пантелей проводил их до своей избы и свернул в ворота. Толпа баб, парней и ребятишек провожала их до самого дома.
Мне было жаль Машу, и я плакал о ней, притаившись где-нибудь в глубине двора, а по ночам просыпался от кошмаров. Бабушка прижимала меня к себе и ласково стонала:
- А ты перекстись! Это домовой тебя давит. Сотвори молитву.
Дрожа от страха, я спрашивал ее:
- Зачем ее насильно отдали?.. Как она живет-то...
у чужих-то?
Бабушка успокаивала меня, как маленького:
- Ну, чего ты, дурачок, томишься? Чай, всех так девокто отдают. Поживут и привыкнут. Так уже от века ведется.
Так уж бог установил.
- Вот ты говоришь, что бог милостивый и любит всех, а зачем он людей мучает?
- Что ты, что ты, греховодник! Рази можно так про бога? Услышит отец или дедушка - не знай что будет, - А бог-то разве сам не слышит?
- Молчи, болтун!.. Греха с тобой не оберешься... Какой бес тебя за язык тянет? Богохульников-то в аду беси за язык повесят. Вытащат язык-то клещами, прибьют к потолку - и веси веки вечные!
Эта угроза действует на меня неотразимо. Я живо представляю себе угарное подземелье, похожее на кузницу, и бесоз с собачьими туловищами и с рогатыми башками, чумазых, красноглазых, мохнатых, расторопных. Они орут, хохочут, хватают меня клещами, такими, как у Потапа, больно ущемляют язык и поднимают меня к потолку. Там шуршат они крыльями, как у летучих мышей, тычут длинные ржавые гвозди в мой язык и машут молотками.
Я слышу их возню, хохот и шелест крыльев, чувствую их мохнатые и костлявые тела, которые пахнут псиной, и меня сковывает холодный страх.
XXI
В воскресенье после "моленного стояния" собирались на нашем дворе мои приятели - Кузярь и Няумка, а иногда несмело заходили двое парнишек дяди Ларивона - Микитьа и Степанка, оба белобрысые, с голодными лицами и кспуганными глазами. Толкаясь плечами, они, в стареньких, заплатанных шубейках, жались друг к другу и, как нишие, смотрели на нас жалобно, словно ждали милостыньки. Мпкитка был на два года старше Степанки, но оба были одинакового роста и очень похожи друг на друга, как бтазкецы. Около моленной они боязливо подходили ко мне и ныли наперебой:
- Братка, аль ты брезгуешь нами?.. Мы, чай, двоюродные братья.
- Тятенька зовет тебя к нам поиграть. У нас нынче мамынька пирог с капустой испекла.
- А у нас гора-то высокая, выше вашей. Будем на салазках кататься.
Они не нравились мне: больно уж были жалкие. Улыбались они как-то не по-людски: закрывали ли по варежкой, и глазенки их туманились не то страхом, не то болью, а веки дрожали. Мне хотелось обнять их и встряхнуть, чтобы они громко засмеялись, но ь:е решался: как бы они не заплакали. И я был рад, когда мать, нарядная, праздничная, возвращалась с Катей и бабушкой из моленной и приветливо вскрикивала:
- А-а, Микитонька, Степашенька! Идите ко мне. В избу пойдемте, - я вас горячими лепешечками с молочком попотчую. Чего это мамынька-то в моленную не пришла?
Парнишки жались друг к другу и, застенчиво улыбаясь, шли ел навстречу, счастливые от ее ласки.
- Мамынька-то лежит, тетенька Настя, хворает. У нас землю барин отобрал...
Однажды Кузярь и Наумка пристали к Семе, чтобы он показал им свою мельницу.
Пока Сема ходил за мельницей, Кузярь бросался то ко мне, то к Наумке и сшибал с нас шашек, чтобы разозлить.
Наумка почему-то сразу же свирепел и кидался на него с кулаками. От рябин лицо у него становилось пестрым. Но юркий Кузярь, озорно поблескивая глазами и зубами, подставлял ему ногу, и Наумка брякался на землю. Кузярь побеждал нас задиристостью и нахальством: неожиданно даст тумака, сорвет шапки, вцепится в шею. Ошарашенные, мы с Наумкой бешено бросались на него, как слепые. Он пользовался этой нашей безрассудностью, увиливал и орал.
- Эх вы, бойцы!.. Двое спроть одного, а сами ноги задираете. Вы оба-то ведь вдвое старше меня.
Я негодовал:
- Жулик ты!.. Из-за угла кидаешься... Обманом берешь.
А ну-ка, давай по-честному.
Наумка обиженно упрекал его:
- Таких, как ты, надо в жигуленку сажать. А то и... отлучать от согласия.
Кузярь приплясывал и скалил зубы.
- Эка, чем пугать вздумал! Мне самому осточертело с лестовкой дураком стоять да поклоны бить. Это только мне на руку, ежели бы меня отлучили. Я бы тогда чего хотел, то и делал. А про честность мне не толкуйте: надо уметь ловко драться. Вы по-дурацки деретесь - напролом, а я - фокусно да учетисто. Меня люди-то похвалят, а над вами смеяться будут.
Меня взорвало его бахвальство. Я сжал кулаки.
- А ну-ка покажи... покажи-ка сейчас...
Наумка сердито шагнул к нам.
- Вы, бараны, оба драны... Глаза бы на вас не глядели.
Разве так дружат?
К моему удивлению, Кузярь протянул мне руку и очень серьезно сказал:
- Хлопнем по рукам! Стоять друг за друга на всю жизнь!
Мы хлопнули ладонями и крепко сцепились пальцами.
- Разнимай, Наумка! - крикнули мы в один голос.
Наумка деловито разорвал наши руки и надул губы.
- А я-то? Чай, тоже с вами.
- Ты еще тюхтяй, - решительно ответил Кузярь. - Недогадливый. Обдурять не умеешь. Сперва помолись своему ангелю: пророк Наум, наставь на ум.
В этот раз мы были в мире и согласии, хотя Кузярю не терпелось выкинуть какой-нибудь фокус. Он сшибал мерзлые шевяхи и, бегая за ними, швырял их валенками в разные стороны.
Сема вынес свое сооружение, и мы побежали к нему, чтобы общими силами установить его на телеге, опрокинутой вверх осями под навесом. Сема поставил мельницу на дно телеги, снял крышу и вынул по частям толчею, потом насос. Как хозяин и строитель, он оттолкнул в стороны Кузяря и Наумку и с сосредоточенным лицом объявил:
- Издали глядите, не мешайте. Это не игрушка.
Он поставил рядом с мельницей брусок с вырезанными в ряд ямками, с двумя столбами по краям и вертикальными пестами над каждой ямкой. Наверху между столбами лежал валик с зубьями, вбитыми по винтовой линии. По другую сторону мельницы, у стены, быстро всунул в костыли длинную лутошку с выжженной сердцевиной. Потом пристроил коробку, похожую на скворечник, с коротким рычагом, а на рычаг надел другой - длинный рычаг. От коробки тянулась лунка для стока воды. Ребята с нетерпеливым любопытством вытягивали шеи и, пораженные, не могли оторваться от этой сложной постройки. Кузярь, сухопаренький, с недетскими морщинками на лбу и по углам рта, беспокойно извивался, и костлявенькие длинные пальцы его хватались за переплеты телеги и тянулись к толчее и к мельнице. А Наумка глупо смеялся, сопел и спрашивал недоверчиво: