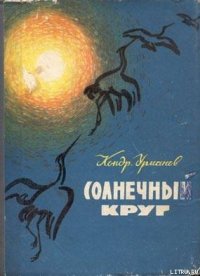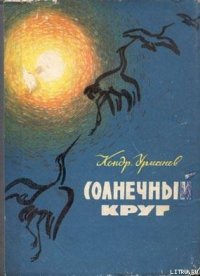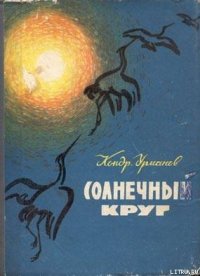Солнечный круг - Урманов Кондратий Никифорович (книги без регистрации бесплатно полностью сокращений .TXT) 📗
А пока они спорили, появились два болотных луня и подцепили по утенку. Сороки и вороны кинулись за ними, но у этих хищников не легко отобрать то, что им попало в лапы. Вернувшись в кусты, они подняли такой галдеж, что Володя спросил:
— Папа, а почему они так кричат? Может быть, — утенок ожил и убегает от них?
— Нет, Володя, утенок теперь не оживет. Пока они гонялись за лунями да спорили, видимо, нашелся еще один санитар — хорек или горностай, и уносит их добычу. Видишь, они перелетают все дальше и дальше от места, где уронили утенка…
А тем временем явился еще один коршун и унес последнего чирочка. Сороки и вороны остались ни с чем.
На широком плесе было чисто, и оно больше никого не привлекало.
И Володя сказал:
— Все!..
— Вот тебе и санитары… Так уж в природе заведено. Если бы умерших зверей и птиц никто не подбирал, — людям, да и всему живому трудно было бы дышать, могли бы появиться новые болезни. Таков закон жизни…
Я смотал удочки и вывел лодку из-под куста. Мы плыли в обратный путь и некоторое время еще слышали жалобное пиканье. Утята звали мать.
Потом голоса стихли.
Я вел лодку возле самых камышей, желая переключить внимание сына на ловлю щук, а он смотрел вперед и, казалось, совсем забыл о рыбалке…
Много видел Володя в эту первую свою поездку по реке Уень, но самое большое впечатление осталось у него от смерти чирушки и ее маленьких детей.
Такое не скоро забывается.
Разбойники

Отшумела звонкая, весенняя песня; словно с хороводом прошла она по нашей земле, одела деревья в зелень листвы, степи покрыла травами, разбросала цветы: желтые, белые, розовые, лиловые.
На озерах, болотах и поймах утихает утиный галдеж, в непролазных чащах камыша замолкают гуси, лебеди, журавли, только по опушкам леса все еще звенят мелодичные песни зорянок, лесных коньков, мухоловок и многих других мелких певуний.
Охота окончена, сейчас все птицы садятся на яйца, и в жизни охотника наступает новая полоса: хорошо прочищенное ружье повешено на свое место — до осени, утиные чучела поставлены на полку в кладовую, запрятаны в ящик и заперты на замок баночки с порохом, мешочки с дробью, коробки с пистонами и пыжами.
Но охотник всегда остается охотником. Это я знаю по себе. Как только окончится весенняя охотничья «страда», в комнате появляется другое оружие: длинные бамбуковые удилища, переметы, дорожки, жерлицы, коробки с блеснами и крючками. Все это рыболовецкое хозяйство подвергается серьезному осмотру: проверяются лески, наплавочки, грузила, чистятся блесны, затачиваются крючки…
И неизвестно, как об этом узнает Кешка — сын моего соседа Петра Филимоныча, — остроглазый такой, конопатый парнишка. Влетает, можно сказать, без доклада и сразу:
— Здравствуйте, Михаил Петрович! На рыбалку поедем?
— Поедем, — говорю, — да не все… ты откуда узнал? Сорока, что ли, тебе на хвосте весть принесла?
— Так по табелю теперь все рыбы икру выметали, самая рыбалка должна быть…
— По какому, — спрашиваю, — табелю?
— Да вы же сами в прошлом году рассказывали, какая рыба и когда икру мечет, ну, я все и записал в табель.
Ах, сорванец! Все запомнил! Всякое слово на ниточку нижет…
— Ну, хорошо, — говорю, — с нашим табелем как будто все в порядке, на рыбалку ехать можно, а вот как твой табель? В каком он положении? О нем ты, кажется, сейчас должен больше всего беспокоиться…
Кешка замялся, потер кулаком лоб и говорит:
— Зимой во вторую четверть маленько ошибся… Коньки подвели…
— Не туда заехал?.. — спрашиваю.
— По арифметике на тройку напоролся… — улыбается он, и веселые веснушки на щеках словно оживают и ползут к его лукавым глазам. — Вечером долго на катке катался, а домой пришел — спать лег…
— Плохо твое дело, — говорю. — Без арифметики и в рыбацком деле нельзя. Там ведь тоже полный учет надо вести всему. Сколько, например, окунь откладывает икринок? Не знаешь? Ну вот. Какой же ты рыбак? Если бы мы с тобой посадили в пруд одного окуня-самку, она бы отложила весной 30 тысяч икринок, плотичка или чебак — до 100 тысяч, щука — до 200 тысяч, а карась — до 300 тысяч… Как же ты обойдешься тут без арифметики?
А Кешка улыбается:
— Вот бы порыбачить в таком пруду!..
— Сорванец, — говорю я ему, — вот кто ты! Я тебе про одно, а ты про другое. Не возьму тебя на рыбалку. Сам в субботу поеду, а тебя не возьму. Принесешь табель с хорошими отметками, тогда посмотрю…
— Так ведь табель я принесу в конце года… Возьмите меня, я все уже исправил… Больше у меня нет троек ни по одному предмету…
— А четверки?
— Четверка одна запуталась — по диктанту… — виновато улыбается Кешка.
— Ну и кончено! Нам с тобой, Иннокентий Петрович, и разговаривать не о чем… Когда начнутся летние каникулы, видно будет…
— Михаил Петрович, ну возьмите… — умоляет Кеша.
— Нет! — говорю я строго. — Я давно Михаил Петрович, а ты давно Кеша. Я возьму с собой того, кто умеет кататься на коньках и находит время готовить уроки, у кого не только троек, но и четверок нет… Что мне скажут твои родители?
И проводил его домой…
Неделя пролетела незаметно, а в субботу я не выдержал напора. Кеша пришел с матерью, я, признаться, человек мягкий и — сдался…
— Ладно, — говорю Марии Николаевне. — Кешу я возьму с собой, только за его отметки не отвечаю…
…И вот мы плывем по широкой и многоводной Оби. Река спокойна, и наша лодка легко скользит вниз по течению. Кеша старательно налегает на весла. Он бы с удовольствием сидел сложа ручки и любовался богатой зеленью берегов, кустами зацветающего шиповника, жимолости, калины, но у нас мало времени, и я посадил его на весла. Нам нужно спуститься километров девять по Оби, проплыть по образовавшейся прорве в Кривое озеро, а из него, протокой — в Глухое. Нужно еще к ночи поймать несколько чебаков и окуньков, чтобы поставить наши жерлицы на хищников.
На Глухом озере Кеша еще не бывал. Когда протокой мы попадаем в него, я говорю:
— Вот, Кеша, какое оно, Глухое. Названо так потому, что раньше оно было закрытое. Озеро тихое, глубокое, рыбы в нем много. Сколько, ты думаешь, нынче здесь отродилось мальков?
Кешка опускает весла, поворачивается и долго глядит вдаль, на крутые берега, поросшие тальником, серебристыми, еще низенькими тополями, кустами смородины и редкими одинокими березками.
— Этого, Михаил Петрович, нельзя сосчитать… Если от каждого окуня из икринок появится по 30 тысяч мальков, от каждого чебака по 100 тысяч, от щуки по 200 тысяч, от карася по 300 тысяч… А сколько взрослых рыб — неизвестно… Нет, этого никому не сосчитать…
— А тут еще налимы и лини живут, да и твои любимые ершишки из реки заходят…
— Ни один человек этого сосчитать не может, будь он распрофессор… Цифр не хватит… — убежденно заявляет Кеша.
— Это потому тебе так кажется, что ты многого не знаешь, Кеша, — говорю я. — Икринок-то рыба откладывает много, а мальков на свет появляется гораздо меньше…
— Куда же они деваются?
Я рассказываю ему, какое огромное количество икринок погибает еще до того, как из них появятся мальки.
— Разгулявшиеся волны часто выбрасывают большие ленты и сгустки икры на берег, и она засыхает на траве, ее съедают утки и чайки, ее уничтожают сами же рыбы, такие, как щуки и окуни… да и появившимся малькам они пощады не дают…
— Ох какие разбойники! — удивляется Кеша.
— А какие они разбойники, я покажу тебе на примере, если мы попадем на жор… Бери весла, поплывем в тот конец, там вода чище и ночевать удобнее…
По Оби и по Кривому озеру мы все время плыли с востока на запад, а в Глухом поворачиваем и плывем в обратном направлении. Вдали видны дымки заводских труб родного города, но ни один звук сюда не доносится. Здесь была бы полнейшая тишина, если бы не птичий гомон. В заботах о потомстве утихомирились утки, перестал токовать бекас, замолкла выпь, но маленькие певуньи наперебой заливаются во всех кустах, окружающих озеро Глухое, и в воздухе стоит несмолкаемый звон.