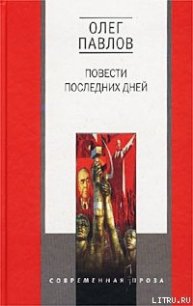В Безбожных Переулках - Павлов Олег Олегович (книги бесплатно полные версии TXT) 📗
Но то была не песня – это начинал он читать в пустой комнате стихи; ему нужно было только, чтобы сидел я у его ног на ковре и слушал – хоть одно человеческое существо чтобы было рядом с ним. Это были и его стихи – и тут заставлял он меня понять, что это не чужое, а его, им, отцом моим, сотворенное, так что у меня захватывало дух, словно он внушил мне, что имел колдовскую силу, умел колдовать. И когда начинал выть да реветь, морща лицо, как резиновое, выражая все чувства человеческие от любви до горя, то мне чудилось, что отец мой колдует. И если мне хотелось испытать да увидеть все снова, как по заказу, то я просил его «поколдовать». «А это Сергей Есенин...» – произносил он зловеще, начинал шататься, гнуться в креслице. Ножки кресла тоже начинали ходить ходуном, и он чуть не умирал с первых же звуков: «Чччерный ччччеловееек... Чччерный, чччерный...» Комната мрачнела, наливаясь сиплым дрожащим отцовским голосом, и делалась похожей на подвал. Я же испытывал всю силу и страсть ужаса – и время проносилось как в кромешном видении, а когда он умолкал, наступало неимоверное освобождение. Умолкая, он начинал рыдать, как будто только потому, что больше не слышал собственного ужасного голоса. Пугаясь рыданий этих, я потихоньку сбегал, бросая его одного в комнате, и долго боялся заглянуть к нему или не заглядывал уже вовсе, только прислушиваясь, что в ней творится. А он задремывал в кресле, и наутро могло оказаться, что проспал в пальто да в шляпе всю ночь.
Когда у нас еще бывали гости – его морские друзья, многие приходили со своими детьми, зная, что в доме тоже есть ребенок. Взрослые пили, веселились – а мы играли, подружившись на один вечер. Однажды я увидел у мальчика красненькую денежную бумажку, а потом утянул ее потихоньку из его пиджака, когда от жаркой беготни все побросали в комнате курточки, пиджачки, свитерки. Что такое деньги и для чего они нужны, я знал, но сам еще никогда их не тратил, видел только у взрослых. Позавидовал, утянул и спрятал. Пропажу обнаружили, когда гости собрались уходить. Деньги искали по всей комнате, думая, что мальчик потерял отданные ему на хранение деньги, когда играл. Только тогда я понял, что не просто взял чужое – а что это чужое даже не принадлежало мальчику и было очень важным для его родителей. Но молчал и помогал с усердием искать, думая, что так скорее забудут о том, что искали. Мальчика ругали, винили. Я видел его растерянное, испуганное лицо, а сам уже мучился от стыда за себя, жалости к нему, страха перед взрослыми. Все были в комнате, и ничего нельзя было вернуть назад, хоть как-то подбросить украденное. Денежку я спрятал в щель кухонного дивана. Наверное, было заметно, что происходило со мной, но после тщетных поисков в комнате детям не устроили допроса или обыска. Гости ушли. В тот же вечер я вертелся около мамы, спрашивая: а что будет дома этому мальчику? Мама отвечала равнодушно: его накажут. Потом я спрашивал, а что будет с мальчиком, если не он потерял эту бумажку или если она потом вдруг найдется... Мама промолчала. Для того чтобы мальчика не наказали, нужно было сразу, теперь же сознаться в краже. Страх перед взрослыми чужими людьми с их уходом исчез. Во мне боролись жалость к мальчику и чувство стыда, отчего-то побуждающее скрыть правду. Когда я не стерпел и сознался во всем родителям, то не успел заслужить наказания и даже их презрения: первое, что сделали, – отодвинули на кухне диван, чтобы достать купюру, и увидели там с удивлением и смехом все спрятанное мною.
Нашли все, что пропадало в доме, нашли и чужую красненькую денежную бумажку. Но там же, за диваном, вперемешку с мышиным пометом оказались россыпи монеток всех достоинств, даже бумажные рублевки, которые я когда-то у кого-то стащил. Прибежала сестра. Кухня заполнилась смехом. Громче и счастливей всех хохотал отец. И я смеялся, бегал, прыгал, хоть до этого к горлу подкатывался слезливый ком. Денег в моем кладе оказалось столько, что когда все собрали и подсчитали, отец снова веселился и хохотал.
Деньги собрали в банку и почему-то отдали ее мне. Сначала я схватил их, унес, опять спрятал где-то в игрушках. Но в тот же вечер пришел с этой банкой к отцу: отдал, подарил, расстался со своим богатством, только чтобы еще раз услышать его смех. На следующий день мы шагали по проспекту, отец взял меня с собой, казалось, понимая, как я был горд, что скопил для него столько денег. Он вел меня покупать морожное. До этого я еще никогда не покупал для себя мороженое и у меня не было денег, но мы с отцом стали богачами – и он высыпает в мою ладошку горсть тяжелых, как будто очень древних, медных монет. Их нужно положить в маленькое отверстие, похожее на дупло, а из его светлой пустоты вдруг появляется сладкое холодное снадобье от всех волнений. Но детям нельзя есть много мороженого, иначе они простудятся. Поэтому я думаю, что там, внутри, знают обо мне всё, даже мое имя. Там зимой и летом живет волшебница, только она может сделать сладкими снег и лед. Она должна быть холодной, как зима, и доброй, как лето. Она раздает морожное – а теперь слушается и повинуется, исполняя за подношение из медяков мое желание.
Мы шагали по проспекту... Мороженое сладко таяло во рту. Вдруг зашли в какое-то кисло пахнущее помещение, где стояли рядами на витрине большие разноцветные бутылки. Отец высыпал мелочь на прилавок, опять не удерживаясь от смеха, рассказывая с азартом растерянной продавщице, откуда она взялась. Пока продавщица, напрягая зрение, с усердием гладила прилавок маленькими плоскими утюжками монет, я горделиво ощущал, что сам, на свои деньги покупаю ему то, что было в бутылке, которую он после озорно и весело прихватил с прилавка. Верил я, что это настоящая медвежья кровь – красная, какая и должна быть, только было удивительно и ново узнавать, что отец зачем-то питается кровью медведей. С этой бутылкой мы пошли не в нашу квартиру, а несколькими этажами выше, к Ивану Сергеевичу, у которого жила огромная черная собака – дог. Это было еще счастье: пойти, увидеть и хотя бы погладить эту собаку. Иван Сергеевич радостно пустил нас к себе. Они стали пить с отцом «медвежью кровь», разговаривать, а я смотрел на удивительную собаку, что тоже подсела к столу, поворачивая то и дело морду в мою сторону, глядела с горестным выражением почти вровень, будто что-то хотела о них сказать, как они ей чего-то не дали.
Иван Сергеевич был отставной полковник, подрабатывал к пенсии где-то вахтером. Ходил в форме вахтера, гордясь ею как военной, и рыкал командиром на всех в доме, если делали ему замечания, хоть и было за что. Когда его охватывала такая тоска, что не хотелось выходить из дома, он выпускал собаку из квартиры, если та просилась на двор. Она убегала, но не на двор, а гулять по лестничным пролетам, делая свое. Жильцы жаловались, а Иван Сергеевич приказывал им молчать.
Когда они сидели и пили «медвежью кровь», Иван Сергеевич начал горячо и задушевно просить отца чем-то обменяться. Отец показно кривился, охал, не соглашался, но под конец быстро согласился, едва Иван Сергеевич предложил отдать ему взамен настольные часы с батарейкой. Отец сходил в нашу квартиру за какой-то залаченной фанеркой, на которой выжиганием было сделано изображение бородатого мужика, похожего на морского капитана: одно его лицо. Теперь Иван Сергеевич охал перед тем портретом и поставил его на самое видное место в комнате – туда, где стояли только что часы. Отец нахваливал фанерку. Иван Сергеевич нахваливал: «Вот же был человек!» Когда мы спускались по лестнице вниз, домой, отец вдруг заговорил со мной, слегка пошатываясь и поэтому отставая – так, будто захромал: «Ты маме не говори, откуда часы... Скажу, купили. Скажу, из магазина». После я увидел среди фотографий в его комнате снимок, на котором узнал бородатого мужика: только он сидел за столом, где стояли бутылки, а по столу ходила у него кошка. Я привык, что фотографии в комнате отца были из его жизни, даже если не он был на них сам, а просто какие-то корабли, рыбины, чужие, казавшиеся случайными, лица. Про себя я понял, почему отцу не было жалко той фанерки – ведь у него была все равно что еще одна. Но не понимая все же, за что он выменял часы, я спросил у него об этом человеке. Отец откинул голову, будто хотел завыть, как всегда с ним случалось, когда чем-то сильно восхищался. И даже вправду завыл, говоря бессмысленное: «У-у-у-у... Это человек!»