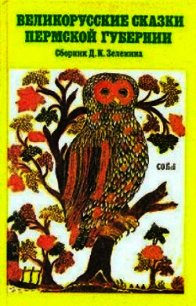Страшные сказки - Тихонов Василий (бесплатная регистрация книга txt) 📗
И страшно деду, а все интересно, хоть одним глазком охота поглядеть, какие они, биси, у других-то. Снова к Николаю Венедиктовичу пошел, больше-то не знает, к кому.
— Ох, паря, не дело ты задумал, ни к чему это все. Ну что они тебе на душу пали?! Ладно, коли уж загорелось в трубе, слушай. Только одно скажу: так все было, не так — не ручаюсь. Был, говорят, в деревне нашей гармонист. Фасонистый, гордый не по годам, но музыкант был изрядный. У них ведь как заведено: денег не плати, только окажи почет и уважение. Так и шло все чин чинарем, но вдруг случилось, что на пирушки его звать перестали. То ли другой какой гармонист объявился, то ли еще какая причина. Заскучал он — обидно стало. Гармонию чуть не на вышку забросил. А тут вышел раз на крыльцо да и сказал в сердцах: «Хоть бы меня черти на вечорку позвали!» Ближе к вечеру парни незнакомые приходят: «Ты, что ль, гармонист?» — «Ну я. А вам-то какая печаль?» — «Зря злишься. Приходи лучше в баню нашу, поиграй малехо. Мы тебе хорошо заплатим». Гармонисту-то того и надо, но для виду еще поторговался: и идти, мол, далеко, и денег маловато, и охоты нет на ночь глядя. Согласился все ж. «А баню нашу, — грят, — по синенькому огонечку найдешь». Пошел он, как стемнело. Долго плутал, огонечек синий его, однако, вывел. Свет от него какой-то неяркий шел, будто месяц молодой сквозь тучку проглядывает. Вошел парень в предбанник — пусто. Банную дверь приоткрыл — там окромя огонечка ничего нет. Прикрыл только, — как козочки по мосту колготятся, — застучало по доскам, да дверь сама собой и распахнулась. Глядит, и странно ему делается: парни те же, девки при них незнакомые, да баскущие такие, что глаза отвесть невозможно, и все вроде как положено, — закуски, полштоф на полке — однако что-то не так. То ли девки больно бесстыжие, ногу чуть не выше колена кажут, то ли парни больно мордастые да круглые, не поймешь. Ну да ладно, плюнул гармонист сквозь зубы, сел в уголок, пальцами по кнопкам пробежал и заиграл. Те сразу заскакали. И пляска у них такая удивительная, какой он и вовсе не видал. «Не моя, — думает, — забота, как пляшут. Мое дело маленькое — прокукарекал, а там хоть не рассветай». Играет, пот со лба утирает, а эти все не унимаются. Стал гармонист примечать: они, когда скачут, пальцы в скляницу макают, глаза снадобьем каким-то трут. Любопытно ему стало, что за снадобье такое налажено, улучил минутку и залез одним пальцем, пока плясуны отвернулись. Правый глаз смазал. Тут как искры посыпались, стены у бани сразу разъехались, и оказались они то ли во дворце, то ли в кабинете каком. А парни и девки бесстыжие совсем другими сделались. Хвостатые и рогатые, прыгают друг на друга, на полу извиваются! Срам, да и только! Гармонист от изумления и играть-то бросил. Они к нему: пошто, мол не играешь?! — «Да мне до ветру надобно, по нужде». — «Не пустим, удерешь». — «Да я вам гармонию оставлю. Вот те крест!» Как крест-то на себя наложил, они вроде съежились и от дверей бочком, бочком попятились. Вскочил парень на вольный воздух — и деру! А место-то узнать не может. Сам не помнит, как до дому добрался. На печь залез да там и дрожал до утра. А утром со святой водицей, с крестом пошел ту баню искать. Насилу отыскал. Гармонь, говорит, в клочья порвали — одни планки остались. Да еще скляница на полке стоит. Парень уж ее не тронул, углы только банные окропил святой водицей, помолился, дверь с окном крестом обнес. Так и сейчас эту баню Чертовой называют, не моется там уж никто.
Такая вот история, Карпуша. Понял ли?
— Да понять вроде не шибко хитро. Нешто ты, Николай Венедиктович, полагаешь, что скляница та сохранилась? И угланы ее не разбили, и баба никакая под дело не приспособила?
— Это уж как повезет, Карпуша. Чертова баня, запомнил?
Как сказал, так и случилось. Сыскал дед эту баню. И скляница там на полке стоит, только то чудно, что ни пылинки на нее не село, как протирает кто. Снадобья-то самая малость осталась. Протер дед один глаз, вот только забыл — правый ли, левый. Не втом суть. Стал он многоё видеть, что раньше недоступно было. Идет по деревне и дивуется. Куда глаз ни кинь — везде окаянные пристроились. Один вон у самой околицы притулился, на жердине ждет, когда кто ми-мо пройдет. А сам-то приговаривает: «Меня с печи батогом, а я с вами веселком. Как захочу, так и проглочу». Известное дело, похваляется. Сам-то с палец, съесть не съест, а вот попортить — всегда пожалуйста. Идет девчоночка-углашка, репку жует, он и — прыг! — на нее. Сначала на репку, потом уж с нее на роток, а там и в нутро. В избе у оконца старуха сидит, пониток починяет, а нитку в иголку вдернуть не может. Окаянный под руку толкнет, она и не попадает. Старуха-то лешакается на иглу: «Вот, черт тебя забери!». А он и рад, на глазах раздувается, что твой пузырь.
Идет Карпа дальше, сквозь стены все в избах видать — такой зоркий глаз стал. В одной избе, вишь, молодые на полатях заиграли. У молодухи-то коса длиннющая, до полу свешивается, вот окаянный ее и теребит, сам норовит заместо мужика пристроиться. А другой свекра подговаривает, нашептывает ему в уши — тот за молодыми в щелку подглядывает. Дальше идет — мужик за столом сидит, думу черную думает. А чертенок из-за штофа выглядывает, подмигивает — быть в этом дому делу черному.
Страшно стало деду. Что-ж делать-то? Как себя да родных уберечь от такой напасти? У каждого ведь черти свои. Вот колдунья-горбунья в голбец спустилась, в пестере жучков перебирает. Дед Колян птичкам перышки оправляет, а в другом дому черти медуницами кажутся — в гнезде своем гамазятся. Всех и не распознаешь — какие они у других бывают. Призадумался дедушка Карпа: что ж люди-то скажут, коли у него самого окаянные откроются. Их хоть и не видно, а способы-то есть — на каждого управу найти можно.
Ведь и сегодня такие люди найдутся, что любого колдуна распознают и высмеют. Колдуны хитрованы, а они хитрее того.
Вот у нас как-то было. Пошел слушок на мужика одного, что он чертистый. Ты дом его видел — раньше справный был, а теперь без хозяина сов-сем плохой. Вдруг стали за ним замечать, что глаза при беседе отводит. Это уж первый признак. А потом баба одна рассказала. Дочка у нее была. Волосики кудрявые, мягкие, глазища большие, ну чисто ангелок во плоти. Три года девять месяцев ей исполнилось. И вот, надо же такому случиться, в избу мужик этот чертистый пришел, на опохмелку просить стал. Мать-то на пече лежала — она дояркой робит — после утрешней дойки. За скотиной опять же ходила, вот и умаялась. А колдун-то пристал, как банный лист — денег ему подавай. Она ему: «Уйди ты, Христа ради, не до тебя, черт лысый!» Тот не уходит. «Пусть дочка, — мать-то говорит, — кошелек тебе подаст. Мелочь там у меня, бумажных-то уж нету». Дочка и подала — восемьдесят семь копеек. Колдун по голове ее погладил и говорит: «Спасибо, доченька. Вон ты какая, Граша, красивая выросла». И только-то. А ведь хватило! Стала девочка чахнуть и чахнуть. И недели не прохворала, померла, бедная. Что с матерью-то было! Вот она выла и выла. Дитя-то последыш, его жальчее всего. А ведь только погладил по голове и сказал: «Какая ты, Граша, красивая». Пошла мать к старушке узнать. Та ей говорит: «На похороны не зови никого. Кто в могилу свел, тот первый должон прибежать». Так и сделала. А день-то ненастный получился, дожжило, ветер опять же холодный. И вот надо же! Ни один человек не пришел, а этот чертистый тут как тут. В избу заходит. «Я, — говорит,— должок тебе принес. Восемьдесят семь копеек». А сам все в гробик норовит заглянуть, видать, чертенка забрать надо было. Им же нельзя, чтобы черти пропадали,— остатние замучают. У матери-то в глазах потемнело, но сдюжила, ничего уж не сказала. Схоронила баба Грашу, на могилке поплакала и пошла к бабушке учиться. Та ей все как есть рассказала, ничего не утаила. И как узнавать, и как привязывать. Знаешь, поди, воскресная молитва есть? Так ее если навыворот прочитать при колдуне, он на одном месте мозолиться будет, никуда уйти не сможет. Или иголку еще хорошо в косяк втыкать — тоже с места не сойдет. Так вот и привязывают. Баба та колдуна на поминки зазвала, на девятый день. Накормила его до отвала, браги поднесла, а потом возьми да и прочти воскресную молитву навыворот. Привязала его к лоханной ножке. Это лохань — с нее зимой скотину поят, — которую в избу со двора забирают. Он и заелозил, и так и сяк, а выйти-то не может — молитва его держит. Ох, худо ему было — полную лохань наблевал, дак баба блевотину съесть заставила, все не отпускала колдуна. Всласть поизмывалась, но дочку-то не вернешь. Чертистый позже, как увидит ее, бегом бежит. Потом съехал с деревни. Так вот колдунам достается.