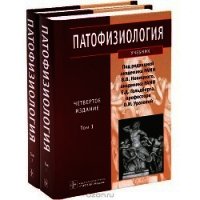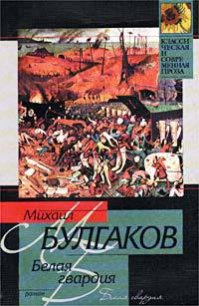Еська - Першин Михаил (онлайн книги бесплатно полные txt) 📗
Хотел Еська вперёд бечь, слегою ткнул посильней, да второй раз в прежне место попал. А топь словно того и ждала. Зачмокала, зачавкала, хвать-хвать. И слега, ровно живая, тык-тык. Ткнётся и дрогнет, и, вымаясь, того пуще задрожит. И с кажным разом всё глубже уходит. Еська тянет-тянет, ан она вовсе вырвалась. Ишо разов с десяток потыркалась-подёргалась, покудова вовсе в глубину не ушла. И напоследок стон раздался, а верней сказать: два стона – в точности как бывает, коли баба с мужиком в единый-нераздельный миг на саму что ни есть верхушку сладости да неги вскарабкаются и застынут, от времени и мира оторвавшись.
Остался Еська один на один с болотом. А стоять-то нельзя. Надо вперёд идтить. Только кажный шаг всё труднее даётся.
И настал наконец шаг последний. Когда Еська ногу вытянуть из топи не смог. Почти уж было вынул, ан манда-то зелёная в распоследний разок по ей губками мелко этак чмок-чмок-чмок. Молоньей дрожь просквозила Еську до самых корешков волос, и не удержался он. Качнулся, да обратно в прежне место ступил. Тут конец его пути и настал.
Сама собою нога задвигалась, манду зелёную наятивая. То почаще, то – реже да заимистей. То легонько корочку поверхностную потеребливая, то вглубь с силою протыкиваясь.
Да и втора нога-то отставать не пожелала. И куда ей было деваться, коли с места всё одно сойтить не можно? Так же и она стала сама своим карахтером распоряжаться.
И словно туман некий Еську стал снизу обволакивать. Поначалу живот онемел, ничё в нём не чуялось, потом до груди дошло. Уж он и разобрать не мог: бьётся в ей сердце аль нет. Кажись, само дыханье пресеклося.
Глянул Еська вниз: а тама ишо ужаснее! Тело-то его на две части расходиться стало. Потому ноги всё глубже и глубже в трясину мандовую погружались, но кажная своим путём. Вот от мотни да выше стал Еська расходиться, на две елды разделяться. Так и немудрено, что он брюха не чуял: заместо его уж от пупа книзу две оконечности уходили. Вроде как щепка на лучины, Еська наш раскололся.
Тут и лягуха откуда ни возьмись. Села пред им, заквакала. Только Еське энто кваканье стало вдруг яснее речи человечьей:
– Ну, чё ж ты тянешь, мил-дружок? Куды ж стремишься? Отселева ни один ишо не утекал. Ты расслабься. Видал, как слега-то твоя в меня устремилася? Небось мыслишь: она сгибла аль, того пуще, что я тебя на погибель зову. Да нешто ты не понял, что это не погибель, а са?мо истинно бессмертье! Не кощеево прозябанье, которо ни жизнью, ни смертию назвать нельзя. И не камня какого, что века на месте лежит без чувств, всё одно что его б и вовсе не было. А тако бессмертье, что ты сольёшься со всем, что в глуби моей имеется, со всеми, кто от века во мне так же растворился и без конца, без предела вы будете едино наслажденье спытывать, позабыв обо всём прочем. Да и, коли уж правду молвить, нету опричь меня ничё такого, что бы памяти хоть единого мига стоило.
И много ишо слов лягуха молвила. Уж смекнул Еська, что не лягуха она вовсе, а сама топь чрез пасть ейную с им речь ведёт. А ноги-то своё не прекращают. Уж выше брюха расщелина пробралась. А та – словно мысль его проникает:
– Верно смекаешь. Именно что топью меня звать пристало. Так и топчись шибче. А как расколешься вовсе, разойдёшься на две половины, так и познаешь счастье истинно, которо ни в каких человечьих чувствах выразить не можно.
Всё боле Еська напополам расходится, расщелина уж до рёбер дошла. А кажно слово лягухино всё боле туманом мысль Еськину укутывает. Всё смутнее он себя слышит, зато и тем яснее смысл ейных речей постигает. А та не унимается:
– Не мучь себя, родимый. Ведь одно-едино слово – и освободишься ты от бремени земного. Ни тела не станет у тя, ни боли, ни истомы. А только чистое блаженство вечное обуяет. Ведь сам ты уж возжаждал энтого? Ну, ответь же мне, миленький. Ничё говорить не надо, окроме как словечка «да».
Туманится Еськин ум, но не молвит он слова заветного. Уж до середины груди растреснулся. А лягуха пуще прежнего расходится:
– А не хошь, так и не надо. Не больно-то и слово энто надобно. Молчи, коли тебе так приятственней. Головушкой кивни только в знак не согласия даже, а что понял меня досконально. Ведь понял же, ведь желаешь слиться с благостью вечною?
Так и тянет Еську головой кивнуть, так и клонится шея. Но держится он, крепится из последних сил. А та словно потешается:
– Экой неслух! Ну да ведь не слыхать меня невозможно. А коли слышишь, то ведь не откажешься же ты от блаженства бескрайнего. Кто ж его не возжелает? Верно ведь? А коли так, то, выходит, ты и без всяких слов, без кивков да экивоков со мною согласный. И приму я сей же миг тебя в свои объятия. Потому твоё молчанье мне всех слов понятнее.
До шеи почти раздвоился Еська. Уж и руки к топи потянулись. Ишо чуть-чуть – и четырьмя елдами он с болотом соитится. А мысли вовсе смешались – всё зелёным туманом заволокло.
Лягуха пасть сомкнула и губёшки свои вытянула. Стал Еська клониться к ей. Она ему навстречь – прыг!..
– Не-е-е-ет! – закричал Еська.
Словно эхо, откликнулась лягуха гласом неистовым и в полёте истаяла, самой малости до губ его не долетев. И в сей же миг мысли Еськины очистились, словно и не было тумана зелёного.
2
Вот стоит Еська посреди болота. Да только с того, что мысли прояснились, толку не шибко много. Потому от тела евонного лишь голова да руки осталися, а остальное всё, надвое разделившись, по-прежнему в болоте топталось. Хотя, по правде сказать, давешнего томления он уж не спытывал.
А всё же голова – она лишняя никогда не бывает. Вот и Еська так подумал: мол, коли осталася, то пущай соображает, как из беды такой выбираться.
Ломал голову, ломал, та?к ничего придумать не сумел. Видать, пришла ему пора пропасть в энтом болоте. Как говорится, погулял – и будя.
И решил Еська напослед вспомянуть всю жизнь свою бывшую и всех, с кем ему на пути повстречаться пришлось.
Первой на память Сирюха пришла. Вся она как живая перед взором его встала. Вот груди ейные заколыхалися. Вот плечьми повела. Вот – пошла враскачку. Кажется, даже дыханье ейное почуялось и прикосновенье рук ласковых. Голос её зазвучал. Вот молвит: «Есюшка, родненький». А вот: «Ты меня, братик миленький, к жизни воротил». А вот песня её послышалась. И увидел Еська, будто сидит она вечерком пред прялкою. От лучины свет по ейным пальцам пробегивает, по стенке тень птицей крылатой пропархивает, и поёт она песнь бесконечную.
И тут Еська аж вскрикнул: так ясно он увидал, как пряжа-то в пальцах Сирюхиных из разных ворсинок в едину прядь скручивается. Вот оно, спасенье-то!
Махнул Еська руками навроде как вёслами гребец, да с размаху и повернулся чуток вкруг груди своей собственной. Глядь – на осьмушку вершка свернулся, соединился из двух оконечностей в едино тело.
Только боле-то ничего не выходит. Потому: чтоб дале крутиться, надо опору какую-никакую иметь. А ухватиться-то не за что: ни травинки, ни былинки вокруг не растёт. И даже слегу он утерял в болоте коварном. Не будь оно таким, он бы хоть загребать попытался. Но и этого нельзя: руки в елды обратятся – уж верно спасенья не будет.
Поднял Еська глаза гор? глянул в небо чистое и видит: вот же оно, рядушком совсем. Над самым болотом простёрлося. Видать, глубина – она в едину лишь сторону тянуться могёт, двум безднам враз не бывать. Либо вверху бездонность, тогда под ногами почва упругая. А коли внизу топь беспробудная, то тут уж для выси немного остаётся.
Поднапружился Еська и до неба дотянулся. Хвать одной рукою за тучу, а другою – за облачко, да и стал потихоньку поворачиваться. И точно: мало-помалу грудь себе скрутил, потом брюхо съединять стал. А как мотня появилася и елда с трясины вытянулась да промеж ног срослася, то понял Еська, что спасён.
Стал он ноги вытягивать. А топь-то отпускать не желает, книзу тянет. Последние силы напряг Еська да к небу потянулся.
Вдруг голос слышит:
– Ну-ну, разошёлся! Скоро и меня в прядь свернёшь.