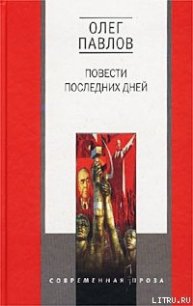В Безбожных Переулках - Павлов Олег Олегович (книги бесплатно полные версии TXT) 📗
Старуха неловко поманила меня, чтобы закрыть дверь, глядя с жалостью и не зная, что сказать мне для начала, такому неожиданному да самозванному гостю. «Проходите, дорогуша... – пролепетала она. – Проходите, проходите, мы вам очень рады... Будем знакомиться...» Я очутился в комнате. Посреди – круглый стол, покрытый мягкой бархатной скатертью; над столом нависал абажур, будто бы окружая светом, отчего и сама комната казалась круглой. Воздух в ней был ощутимо сладковатый. За столом в кресле восседал грузный старик, строгий, даже грозный на вид, укрытый до пояса шерстяным пледом. Он как-то весело, но и печально глядел на меня и подозвал сразу к себе: «Ну здравствуй...» Меня усадили отдельно на стул, и появился стакан с чаем да невкусное – я его попробовал – засушенное печенье. Верно, я дичился, молчал, хоть всё в комнате завораживало меня своей добротой, покоем прошлой жизни – и все вещи были такие же старенькие, как и эти старые люди.
Вдруг старик велел решительно что-то принести. И на стол водрузилось нечто диковинное. «Это микроскоп... Варвара Ильинична, нам бы водички, капельку... Такс... А теперь погляди...» То, что я увидел, заставило меня отпрянуть и тут же вновь прильнуть к глазку: там что-то плавало, похожее на рыбок. После того как я нагляделся на это чудо, старик положил под микроскоп крупинку сахара, и я увидел прозрачные горы его кристаллов.
Потом бродил я подле этой двери много дней и по многу часов, но не являлось в ней щелки, а было глухо.
Казалось, что в этой квартире больше никто не живет. Я стучал в нее кулаком, если проходил и вспоминал о стариках. Но однажды поднимался по лестнице и увидел, как из этой квартиры вышли спокойно люди: мужчина и женщина. Мысль, что в этой квартире могли снова жить, была мне противна. Я отчего-то понимал, что старики уже не знают, что их квартиру заняли другие люди. Мне думалось, что если бы они знали об этом заранее, то жили бы в ней до сих пор. А так казалось, будто их обманули, а люди, что въехали в нее, взяли себе чужое, может быть, даже микроскоп оказался в их руках. После я много раз видел, как они входили и выходили, похожие в моем воображении на воров. В этой семье тоже рос ребенок, одних со мной лет мальчик. Иногда я видел его со стороны, проходящего по лестнице или по двору за ручку с мамой или папой, и испытывал к нему в тот же миг отвращение и даже злобу, а он прятал глаза или это так мне чудилось.
Во дворе дома почему-то никогда не гуляли дети. От того, что я всегда слонялся по двору один, он казался временами местом наказания. Я не знал, что такое битье, даже окриков. Наказанием для меня было молчание матери, а самым строгим – это когда должен был оставаться один в комнате. В одиночестве я чувствовал только тоску, забытость. В такое время хотелось лечь и уснуть, чтобы жизнь проходила сама собой, будто и без меня. Ощущение, что сделался вдруг никому не нужным, рождало растерянность и то состояние, когда мучительно не находишь себе применения – даже своей сделавшейся какой-то нестерпимой и жгучей, будто слезы, любви ко всем, кто отгородился от тебя за стеной. Я не понимал, за что бывал наказан; понимал лишь всегда, что прощен, когда мама звала к себе, целовала и успокаивала разрыдавшегося с концом наказания, все время которого, как это чудилось, теперь уж она должна была искупить жалостью и лаской, раз так долго не хотела пожалеть.
Стены домов делали двор глухим, но и гулким, похожим на дно колодца – со всех сторон двор окружали стены.
Одна стена была вечно чужой – отвесная, мертвая, без единого окна в замурованной кирпичной кладке, она возвышалась с тупым равнодушным выражением. Даже задирая голову ввысь, мог я увидеть только ее же грязно-желтый кирпичный свод, откуда бы ни глядел. Можно было пройти прямо под ней, почти по кромке фундамента, царапаясь плечом за ее кирпичи, ощущая над собой какую-то зыбкость, будто вся она могла в одночасье опрокинуться.
Во дворе жил свой ветер, что выдувал из воздуха пустые стеклянные колбы и потом ронял, отчего и слышался временами будто бы звон разбитого об асфальт стекла; гремел гневно нищим мусором, каждой жестянкой или склянкой и холено обтекал желтушную позолоту домовых серпасто-молоткастых лепнин; бился с грохотом о дубовые запертые двери дома, ворота – и проникал сквозь щели, дыры, гуляя после с хозяевитым гулом по этажам.
Моими друзьями были деревья, что росли во дворе, – липы и дуб. Я знал каждое, от какого-то чувства, бывало, припадал к стволам, стараясь их обнять. Дуб, уж точно, был на свете еще тогда, когда не было ни этого двора, ни дома; я ходил вокруг дуба, будто по дорожке, что могла куда-то увести, и не понимал, где же ее начало и конец. Они то гудели, то хранили молчание под высоким покровом своих же разлетевшихся по небу ветвей, оперенных листвой. И будто слетались в разное время года разные стайки, то нежно-зеленые, то рыжие и ярко-красные.
Когда листва замертво опадала, деревья походили на пустые разоренные гнезда. Голые сучья, хворост ветвей черно испещряли небо над головой. Ветер злился, кружась как на чертовом колесе, листья оживали, взлетали невысоко от земли, тоже кружились.
Завораживало все живое. Порой вдруг я нападал на такое не известное мне существо, отколупывая кусок гниловатой дубовой коры, под которым оно тайно от всех жило. Жук вдруг с жужжанием на моих глазах взлетал в небо, волоча коробчонку своего панциря на тоненьких, выскочивших из-под него мушиных крылышках. Или являлась сороконожка, похожая на множество человечков, что не бросались врассыпную, а дружно, как по команде, устремлялись бежать к одной цели. Чудилось, что в них-то есть сила да могущество, а вот я сам слаб: живущий в стенах громадного серого дома-дерева, будто в расщелине коры, человечек, что появился на этот свет не просясь – так вот, как обнимал не спросясь деревья, в которых, оказывалось, живут они в своей тайной склизкой гнильце.
Если бродил по двору в темноте, к примеру, зимой, когда смеркалось, сотни вспыхивающих окон моего дома, и почти близко и очень высоко, делались похожими на звездочки, слезясь в глазах, завораживая до щемящего озноба. Свет в окнах будто бы выставлял из них стекла. Делалось не по себе от ощущения их распахнутости холоду, но тянуло заглянуть в каждое окно, в каждую сделавшуюся осязаемой ячейку, подающую признаки жизни за шторами или просто на свету, как если бы можно было там где-то незаметно приютиться. Было еще ощущение: никто не знает о том, что я есть, будто и не существую в тот же самый миг, когда все это существует по ту сторону от меня, где так много жизни и света. И я бежал, не помня себя, домой, оказываясь в тепле, просил всюду включить свет, отчего квартира, где в одной комнате обычно светила лампа на столе у сестры, под которой, уединенная ее свечением, она делала школьные уроки, а в другой, где жил отец, горел свечкой у изголовья его кровати старенький торшер да мерцал экран телевизора, вспыхивала вдруг как новогодняя елка.
Праздники