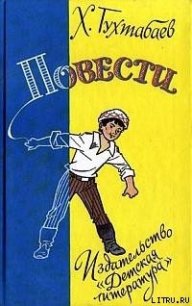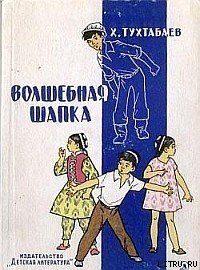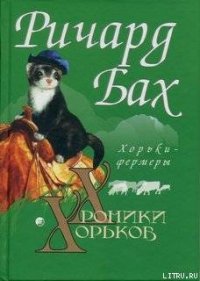Конец Желтого Дива - Тухтабаев Худайберды Тухтабаевич (бесплатная регистрация книга TXT) 📗
Город мой цветущий
Таким образом, дорогие мои друзья, вот и заканчиваю я свой рассказ, где всего было понемножку: и правды, и вымысла, и грусти, и радости. Вы, дорогие читатели, надеюсь, сами поймете, догадаетесь, что и в последней главе ваш Хашимджан опять забегает вперед. Но так будет, обязательно будет. Знаю, знаю, порядком надоел вам, но если признаться откровенно, сам тоже устал. Я мог бы, конечно, на этом поставить точку и распрощаться с вами, но вижу, все-таки надо еще подвести кое-какие итоги.
После того как в нашем городе блюстителем порядка стал народ, мы, милиционеры, поневоле превратились в настоящих бездельников: то играем в шашки, то в «слова», а однажды составили футбольную команду и сыграли со старшеклассниками одной школы. Матч проиграли со счетом восемнадцать — ноль. Попробовали организовать художественную самодеятельность и выступать с концертами, но Сурата-ака назначили редактором районной газеты, и поэтому из нашей новой затеи тоже ничего не вышло.
Майор товарищ Халиков перевелся в отделение милиции Багишамала.
Самада-ака проводили на пенсию. Прощание было очень трогательным.
Вот в такой период, когда работники нашего отделения разбредались кто куда, Салимджана-ака и председателя исполкома товарища Умарова неожиданно вызвали в Ташкент в Министерство. Право слово, я с опаской ждал возвращения наставника, мало ли что?.. Но Салимджан-ака вернулся довольный, сияющий.
— Хашим, сынок! — воскликнул он, обняв меня.
— Значит, опять поздравлять? — спросил я осторожно.
— Не меня надо поздравлять, а я должен поздравить! Тебя, всех наших товарищей.
— Благодарю, товарищ полковник, от имени всех коллег-тунеядцев! — воскликнул я, стукнув каблуками и отдавая честь.
Итак, вот с чем поздравлял меня Салимджан-ака. Состоялась официальная церемония передачи функций отделения милиции в руки представителей народных дружин. В торжестве участвовали сотрудники Министерства, областного управления. Сурат-ака на общественных началах назначался руководителем районной добровольной милиции. ОБХСС возглавил наш славный пенсионер Мамаразык-ака. Начальником угрозыска стала, по предложению женщин района, Мархамат Касымова, недавно вышедшая на пенсию, а до этого тридцать восемь лет проработавшая судьей, энергичная женщина. Район наш объявили опытно-показательным. Представитель Министерства закончил свое выступление словами: «Товарищи, теперь дело за вами, держитесь! На вас смотрит вся страна!» При этом вся масса народа, собравшаяся на главной площади города, крикнула как один:
— Не беспокойтесь, не подведем!
Это прозвучало клятвой.
На другой день девять наших работников выехали в девять районов области для передачи опыта. Салимджан-ака начал оформлять документы на пенсию.
А мы с Фаридой… Да, кстати, бабуля моя сама ходила сватать и с первого захода обделала дело. Хотя ее приняли очень тепло, она сразу заявила, что в случае отказа всей семье не поздоровится. Те посмеялись и сказали, что дело до этого не дойдет.
Я решил вернуться в свой родной кишлак, заново открыть парикмахерскую имени покойного моего учителя уста Усмана Акрамова. Свадьбу мы с Фаридой решили отложить до осени, к сезону созревания урожая. Конечно, ее можно было справить и пораньше, но упрямая моя бабушка решила во что бы то ни стало пошить восемнадцать матрацев и восемнадцать одеял, и ни одним меньше!
Я три дня подряд спорил с Салимджаном-ака, который стал самым дорогим мне человеком, с которым мы делились и радостью, и горем. Я настаивал:
— Поедемте в кишлак, вот где вы развернетесь со своим цветоводством.
— Нет, ты останешься в городе. Дай на старости лет понянчить внуков! — возражал полковник.
— Поедемте, поедемте, вот увидите, как будет хорошо.
— Не могу… — отказывался Салимджан-ака и вздыхал. — Не могу я оставить бесприютной могилку жены…
Так мы спорили — то ругались, то целовались — три дня подряд. На четвертый день Салимджан-ака появился в дверях взволнованный.
— Хашим, ты дома?
— Пельмени леплю, — отозвался я.
— Твоя взяла, сынок. Еду с тобой.
— Это правда?! — выбежал я навстречу полковнику с руками по локоть в тесте.
— Правда, сынок, еду… Знаешь, Хашимджан, что я люблю?
— Вроде бы знаю… Детей любите…
— Да, это так. Но ты не все знаешь. Я люблю ходить босиком по пыльным улочкам кишлака в самые знойные дни лета… Знаешь, что я еще люблю?
— Нет, не знаю.
— Я люблю пустить воду в грядки в лунную ночь и возлежать, ни о чем не думая, на зеленой пахучей траве.
— А что вы еще любите? — спросил я, глядя в горящие радостью и счастьем глаза названого отца.
— Еще? Еще… я люблю ходить на заре по бахче, срывая самые зрелые дыни.
— А еще?
— Люблю сидеть в густой тени древней чинары за чайником чая с мудрыми, неторопливыми дехканами, обсуждать цены на рынке, сдержанно радоваться добрым урожаям… и все такое…
Салимджан-ака-то ведь родом из кишлака. Сорок лет он мечтал когда-нибудь вернуться к земле, к милой сердцу сельской жизни. До сих пор это было неосуществимо — служба держала крепко…
В тот день многое совершили мы, возлежа на нашей кровати посреди благоухающих роз: разбили цветники на каменистых отрогах гор, предварительно освоив, разумеется, эту целину; посеяли дыни, воздвигли шалаш, поохотились на перепелов, пустили воду по грядкам, слушая ее мелодичное журчание; так и уснули, утомленные своими праведными трудами…
Здание бывшего отделения милиции превращалось в музей. С утра мы начали собирать все, что могло нам пригодиться: пожелтевшие письма, документы, именное оружие, короче, единственное, что оставил Салимджан-ака себе — это ордена, медали и фотокарточка покойной жены и сына Карима. Дом он переписал на имя соседа Нигмата-ака. «Пусть детишкам будет где бегать, готовить уроки, не мешая друг другу, — сказал Салимджан-ака при этом. — Твоя келинойи от души одобрила бы мое решение, ведь она была этим детишкам как мать родная». Полковник смахнул непрошеную слезу… На сберкнижке Салимджана-ака накопилось кое-что. Две тысячи он перечислил сыну. Остальные деньги передал народной милиции с тем, чтобы их использовали как фонд для поощрения лучших дружинников. Наутро мы должны были выехать в дальний путь на том самом допотопном, похожем на божью коровку «Москвиче». Но ночью позвонил товарищ Умаров и сказал, что завтра в парке культуры и отдыха состоится небольшое мероприятие и Атаджанов сможет ехать в кишлак лишь в том случае, если примет в нем участие, иначе общественные автоинспекторы будут предупреждены и не выпустят его грохочущую колымагу из города.
Знаете, я думал, что очень люблю Салимджана-ака, а выходит, что Умаров любил его раз в десять больше. Он велел, например, сорвать по одному цветку с каждого куста, посаженного за долгие годы по инициативе полковника. И вот вам результат: в руках всех посетителей парка — букеты роз, цветы у ворот, розы вдоль аллей, цветы в горшках, цветами обвиты цепи качелей, цветами засыпаны крыши беседок… Странно далее: глядишь на эти штуки — цветы, вроде бы ничего особенного, но на душе невольно становится радостно и весело, мир словно преображается, смеется счастливым смехом.
Народ бурлит — протолкнуться невозможно.
Молодые дружинники с повязками провели нас в летний зал. Не успели мы подняться на сцену, где уже сидели партийные и советские руководители района, директора предприятий, как присутствующие в зале дружно повскакали с мест, начали махать букетами. Мне показалось, что весь мир утонул в потоках ароматных и ярких цветов, и люди плывут в этом море как счастливые дети.
Товарищ Умаров поднялся, позвенел колокольчиком. Наступила тишина.
— Товарищи! — Голос председателя исполкома был глух и печален. — Сегодня мы собрались здесь проводить на заслуженный отдых — на пенсию коммуниста, человека, посвятившего борьбе за спокойствие и счастье людей всю свою жизнь, невзирая на трудности и невзгоды, выпавшие на его долю. Дорогой Салимджан-ака проработал в нашем районе почти сорок лет. И за все это время он сделал людям столько добра, что просто немыслимо все здесь перечислить…