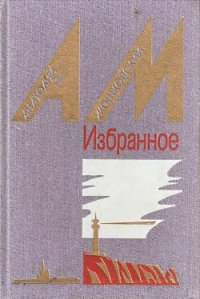В Солнечном городе - Тимофеев Валерий (читать книги бесплатно TXT) 📗
На церковном крыльце согнутая старушка тюкала топориком — скалывала наледь. Скоро утренняя служ-ба.
Илья миновал последний в улице дом (на воротах его и сейчас, в сумраке, угадывалась из года в год подновляемая известью надпись: "Прадаёца"), и вышел на пустырь. Звался этот пустырь Гнилым. Ни бес-хозный клен, ни тополь не могли зацепиться за пропитанную стоками землю. Земля родила чахлую траву; трава желтела уже к началу лета и не притягивала ни гусей, ни скотину. Илья прибавил ходу — торопился быстрее миновать гнилое место, просунул маленькое худое тело в дыру забора и очутился в гараже.
Весь городской транспорт укрывался здесь: ночевал, ремонтировался, а утром, как тараканы от света, расползался по щелям-улицам на зов многочисленных служб и контор, делал начальников гаража самыми влиятельными людьми в районе, неподвластными ни властям, ни, порой, и закону.
Среди машин и особого гаражного запаха Илья обмяк и успокоился. Выверенным шагом подошел к сво-ему ЗИЛку, покопался у задних скатов, запутываясь пальцами в пуговках, ткнул намокшим сапогом в ко-лесо, открыл дверцу кабины.
— Отдохнула, кормилица, — ласково погладил холодный круг баранки, поправил сбившуюся на сидении кошму и поднял капот.
Звонко встренькнули ведра.
— Счас я тебя погрею, — шептал он, направляя узкий желобок дымящейся струи в горловину радиатора. Вода журчала, разбегалась по тонким трубкам, булькала и чавкала, выдавливая студеный воздух. Пар скрывал темную дыру, мешал, охватывал и ведро, и руки, и голову Ильи, выступал мокрью на обритых щеках. Илья изогнулся, сбоку заглядывая на струю, и вливал в подношенное сердце машины ведро за ве-дром.
Пока грелся мотор, подтянул струбцины, смыл набрызги с номеров, заметив вскользь — подкрасить бы надо, — вымел с резинового коврика вчерашнюю грязь.
Где-то в дальнем ряду, на автобусной стоянке, гулко хлопнула дверца.
Илья заторопился.
Впрыгнул в кабину, поерзал костлявым задом по кошме, устроился и выехал за ворота.
2
Месяц назад, когда носилась по степи одичавшая вьюга, заметая дороги и оголяя беззащитные паш-ни, схоронил он сына. Прожил Санька жизнь короткую и пустую, не оставил после себя ни памяти доброй, ни детей малых. Метался, как та февральская вьюга, из угла в угол, не находя себе места, кровянил бес-путством своим сердце матери, состарил ее до времени.
Где осечка произошла? Когда, в какой неуловимый момент потеряли они сына? Нет, не месяц назад это случилось; много раньше оборвалась у них связующая нить; отошел Санька в другое измерение, стал чужим; сторонился их, пропадал с дружками по пивнушкам да по малинам; изредка забредал в дом по-мыться наспех в бане, выпросить у матери денег, и опять уходил в пустоту.
Оттуда, из пустоты и принесли его, замерзшего и, наконец, успокоившегося. А у них и слез не нашлось оплакать потерю единственного сына — давно все повыплакали. И только горечь одиночества навалилась на них, отобрав смутную надежду на Санькино возвращение, к которому они не приложили никаких уси-лий, лишь молча переживали, сторонними наблюдателями следили и ждали: вдруг поумнеет? А он умнел в обратную сторону: морщинел и седел. И смотрел на всё и всех злыми колючими глазами.
На похороны едва набралось два десятка равнодушных людишек: слесарей из гаража прислали; кое-кто из соседей; бывшие Санькины собутыльники да обязательные в такие минуты полуживые старушки, которые раз за разом проходят этот скорбный путь, приучают себя к мысли о скором избавлении от хвороб и одиночества.
Что-то поломалось в жизни. Старики живут, со скрипом, но цепляются за жизнь, а сыны и внуки в зем-лю уходят…
Снег падал на лицо сына, не таял, оттенял желтизну впалых щек, высокого в залысинах лба; осыпал черные волосы, растворялся на белоснежных простыни и подушке.
Дружки передавали смене полотенца, торопливо пятились в конец короткой процессии, звенели стака-нами и равнодушно переговаривались.
— Скоро и мы за им вдогонку.
— Иди ты к черту. Хуже нет зимой загибаться.
— Какая разница когда? Лишь бы скорее.
— Ну и дурак. Торопишься, так веревку на шею и крякай. Никто не держит.
— И крякну.
— Кишка тонка!
— Спорим на литруху?!
Илья недовольно оглянулся, сплюнул в их сторону и, догнав сына, смахнул с лица Саньки холодный снег.
Стыдно, ой как стыдно было ему смотреть в глаза людей, словно это не Санька, а он — Илья, прожил впустую, зря занимал чье-то место на земле. И то, что ни у кого не нашлось доброго слова, ни в одном взгляде не встретил он и малой озабоченности — так, деланно сдвинутые к переносице брови да глаза в сторону — еще большей виной ложилось на него. Последняя ниточка оборвалась. Чего еще ждать оста-лось? А нечего ждать. Такая же пустота впереди, как и у этих отстранившихся от всего и отторгнутых все-ми людишек. — Чем я лучше? -
спрашивал себя. — Тем, что баранку кручу? Дело немудреное — любой справится. Пользительность, она не одной работой меряется. Люди мы и должны тепло друг дружке нести, всходы после себя оставлять. А я? Пустоцвет пустоцветом. И среди людей, а как в пустыне. Да только ли я?
Он обернулся.
Кто из них слова мои опровергнет? Кто?
Не увидел.
Поднял сморщенное жалостью лицо навстречу колким снежинкам; предательской влагой наполнились глаза — от снега ли? И взвыла мятущаяся душа в отчаянии:
— Где же осечка произошла?
3
Прогретый мотор тихо урчал у конторы винного завода.
— Еще не пришли, — заметил Илья темноту в окнах.
Длинный рубленый дом с высокой завалинкой был зажат с двух сторон глухим, сколоченным внахлест из тесин, забором. Дом старинный, и, пожалуй, уже сам забыл и год своего рождения, и мастеров, кото-рые поставили его здесь — при складах и заводике. Было это давно, до Ильи, до отца Ильи, и, может, еще до нашей истории. Дом не поманит. И никто не хочет помнить. Рубим сук под собой. Нашему городиш-ке двести пятьдесят лет недавно справили. В одно время с Магниткой основан, вместе Пугачева воевали. Не далась атаману крепость Магнитная. За всю войну единожды ранен был и то здесь. А надо же: нам двести пятьдесят, а Магнитке скоро шестьдесят. Сами не хотим помнить или не велит кто? А он, Илья, все помнит в своей жизни? Сколько ездит сюда и только сегодня задумался. А сколько, правда? Ох, ты, госпо-ди! Год-то нонче какой? Ведь четверть века скоро, как я дорогу сюда пробил. Четверть века! Со-о-бытие! Надо бы Аннушке сказать. Ох ты, господи! Юбилей. Двадцать пять годочков как один.
Илья любил постоянство. Оно было в крови, в характере. Дед всю жизнь в деревне прожил, — лес берег. Отца парнишкой в эти места привезли и он до пенсии занимался одним делом — лес валил да на завод во-зил. Вот о прадедах Илья ничего сказать не может. Да кто их знает нонче, прадедов? В анкетах не спра-шивают, портретов на стены не цепляют, знатность не в почете. Были и ладно. А кто были и зачем жили — кому какое дело? Наследства все равно не оставили, стоит ли вспоминать? Начнешь копаться, а вдруг там генерал какой, или князь окажется. А то и разбойник с большой дороги. Только хлопоты раскопаешь. Люди засмеют, задразнят. Все короткой памятью жить привыкли. Как птицы — подрастают и разлетаются. Свою родню покидают, а на новом месте не обретают. Живут как хотят: и поругать некому, и подсказать некому. Чужому-то до тебя, как до прошлогоднего снега. Подскажешь, а тебе — обида. Впредь не суйся, не кажись умнее. Без тебя как-нибудь справимся. —
— Тьфу ты, куда занесло, — ухмыльнулся Илья и посмотрел на окна. Они так же холодно уставились в улицу черными глазницами. — Обленились. На работу еле плетутся. Все опоздать норовят, хоть минуту а украсть. У кого крадут? Спроси, и не знают. И зачем крадут, тоже не знают. Но какая-то глупая радость — не переработал! Еще и хвастают. Словно барину насолили. А где он, барин? Покажи?