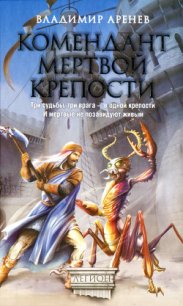Чернышевский - Богословский Николай Вениаминович (лучшие книги без регистрации .txt) 📗
На филологическом отделении первокурсников было сравнительно немного. Среди небольшого числа их человек восемь-десять – вчерашние семинаристы. Еще в тридцатых годах в университет начался приток разночинцев, заставивший потесниться детей дворян. [6] В сороковых годах университеты уже решительно заполнились семинаристами – выходцами из чиновничьей и мещанской среды. Чернышевский попал в университет как раз в промежутке между наибольшим наплывом туда этой категории учащихся и последовавшими вскоре предупредительными мерами николаевского правительства, которое после революционных событий 1848 года на Западе старалось искусственно приостановить наплыв разночинцев в учебные заведения. Именно в 1848 году в секретном циркуляре министра народного просвещения Уварова (автора известной реакционной формулы – «православие, самодержавие и народность») указывалось, что «при возрастающем повсюду стремлении к образованию наступило время пещись о том, чтобы чрезмерным этим стремлением не поколебать некоторым образом порядок гражданских сословий, возбуждая в юных умах порыв к приобретению роскошных знаний».
И действительно, через год число вновь принятых в университет студентов было сведено к минимуму. На первый курс филологического отделения Петербургского университета в 1849 году попали только два человека!
Вступив в университет, Чернышевский вскоре отметил, что и среди профессоров встречаются люди из социально близкой ему среды. Он чувствовал особую симпатию к таким профессорам. Это сказалось даже в споре с отцом о важности изучения французского языка.
Гавриилу Ивановичу очень хотелось, чтобы сын в совершенстве овладел языком светских салонов. Сын возражал, доказывая, что не обязателен этот лоск, что неумение болтать по-французски теперь уже не говорит о плохом воспитании. Для дела необходимо знать язык книжно и не так уже важно хорошее произношение. Он берет в пример профессоров Никитенко, Устрялова, Неволина. Они не говорят ни на одном из новых языков. Где им было смолоду выучиться говорить? Никитенко и Устрялов – вольноотпущенники графа Шереметева, а Неволин – «ведь вы знаете, кто он?» – спрашивал сын, имея в виду духовное происхождение Неволина. «Органов загрубелых уже не переломить, а лучше вовсе не говорить, чем говорить так, чтобы смешить своим произношением».
Вчерашние вольноотпущенники-профессора, вступая в общество, нередко растворялись в нем, дух свободомыслия и протеста покидал их, они постепенно примирялись с существующим порядком вещей и начинали способствовать видам правительства. Они не были, конечно, такими ревностными слугами самодержавия, как попечитель Петербургского учебного округа ярый крепостник граф Мусин-Пушкин. Их могли даже возмущать какие-нибудь «крайности» в правительственных мерах; однако они не шли дальше выражения тайного недовольства под маской полной внешней покорности.
Испытывая на себе постоянный гнет официальной самодержавно-бюрократической идеологии, они не решались, не смели прямо итти против нее, стараясь лавировать, и положение их поэтому было довольно жалким. Это инстинктивно и остро чувствовала разночинная молодежь, пришедшая к ним учиться. Вот почему Чернышевский так быстро разочаровался, перестал ждать чудес от университета. Вот почему Михайлов, проучившись год с лишним, предпочел отправиться в Нижний служить, а их общий приятель – Лободовский, пешком пришедший из Курска в Петербург, чтобы поступить в университет, также очень скоро осознал, что здесь учатся ради дипломов, а не ради подлинного просвещения. Понял это и Чернышевский.
Но другого выхода не было. Нужно учиться хотя бы и ради диплома, чтобы не пропасть, не затеряться потом в бесчисленной массе чиновников. Только обучение в столице и диплом открывали какую-то перспективу в будущем. В противном случае жизнь оттесняла, отбрасывала людей его круга на задний план.
Родным в Саратов Чернышевский писал: «Такой уже теперь порядок вещей, что для того, чтобы быть чем-нибудь (о выскочках не говорим: ведь это исключение), надобно учиться в высших заведениях и служить в столице: без этих двух условий так и останешься ничем, как был».
Дух застоя и реакции давал чувствовать себя на каждом шагу. Казарма и канцелярия, по выражению Герцена, сделались опорой политической науки Николая I. Пружинами этой «сильной» власти была слепая, лишенная здравого смысла дисциплина в соединении с мертвым формализмом чиновников. Квартальные, говорит Герцен, занимали и университетские кафедры. Гласными и негласными предписаниями, устными и письменными внушениями, «пожеланиями» и указками всякого рода стеснена была деятельность каждого из профессоров. А.В. Никитенко в своем дневнике рассказывает, как однажды на чрезвычайном собрании совета университета под председательством Мусина-Пушкина прочитано было предписание министра, составленное «по высочайшей воле», в котором разъяснялось, как должны были понимать господа профессора «нашу народность и что такое славянство по отношению к России».
Предписание гласило, что «народность… состоит в беспредельной преданности и повиновении самодержавию, а славянство западное не должно возбуждать в нас никакого сочувствия». Оно, дескать, само по себе, а мы сами по себе. Его величеству угодно было считать тогда, что западное славянство уже «окончило свое историческое существование», и на основании этого министр Уваров изъявил желание, чтобы профессора с кафедры «развивали нашу народность не иначе, как по этой программе и по повелению правительства. Это особенно касается, – отмечалось в предписании, – профессоров славянских наречий, русской истории и русского законодательства».
Неудивительно, что у питомцев университета создавалось впечатление, что на филологическом отделении им приходится только даром терять время. Рутина и формализм, пустословие и буквоедство…
В дружеских беседах между собой студенты смеялись над «светилом эллинской мудрости» – престарелым профессором греческой словесности Грефе, которому без неправильных глаголов и жизнь была бы не в жизнь. По своим взглядам, точнее сказать – по совершенному отсутствию их, этот старец казался Чернышевскому младенцем. Грефе и знать ничего не хотел, кроме этимологии греческого языка.
Как и Фрейтаг, он читал свои лекции и экзаменовал на латинском языке. Был он, в сущности, добр, но вспыльчив до крайности. Рассердившись, бросал книгу на пол, топал ногами, крича: «Abi ad malem rem!» («Поди к чорту!»). Впрочем, формально удачный ответ заставлял его сразу смягчаться. Знания учеников проверял он пытливо, пуская в ход «римские сарказмы». «Да, склонения ты знаешь, но, может быть, на этом и кончаются твои познания?» – язвительно говорил Грефе по-латыни экзаменующемуся. «А ты спроси!» – отвечал ему в лад по-латыни последний.
Преподавание словесности и истории русской литературы не могло удовлетворить тех студентов, которые мыслили самостоятельно. Кафедру словесности занимал Никитенко, истории литературы – Плетнев. Оба были незаурядными литераторами – имена их остались в истории литературы, но менее всего сказалась их даровитость в преподавании. Студентов удивляло даже, почему Плетнев, высказывавший иногда в своих статьях дельные и верные мысли, предавался на лекциях «усыпительной болтовне», а Никитенко старательно избегал касаться «острых» вопросов, затронутых в том или ином произведении, останавливаясь главным образом на его внешней стороне.
Плетнев вечно искал «примиряющей середины», как-то особенно чурался «крайностей», недолюбливал оригинальность, если она не подходила под его излюбленную мерку… И Никитенко тоже в тех случаях, когда ему все-таки приходилось освещать внутреннюю, «принципиальную» сторону разбираемого произведения, ловко лавировал между рифами, отделываясь туманными рассуждениями о высоких материях.
Чернышевский очень скоро по достоинству оценил либерализм этих видных университетских наставников, робкую половинчатость их идейных устремлений и, разумеется, не мог уважать профессоров, неукоснительно подчинявшихся требованиям казенной идеологии.
6
Пушкин писал в черновых набросках 1833–1835 годов: «Даже теперь наши писатели, не принадлежащие к дворянскому сословию, весьма малочисленны. Несмотря на то, их деятельность овладела всеми отраслями литературы, у нас существующими. Это есть важный признак и непременно будет иметь важные последствия».