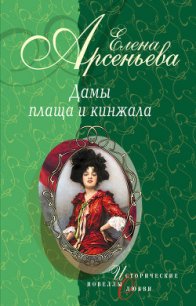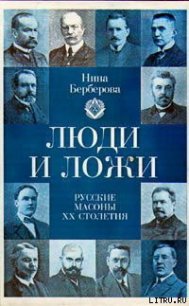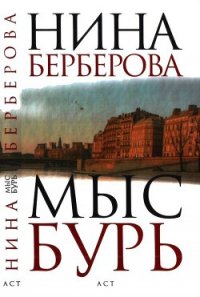Железная женщина - Берберова Нина Николаевна (книги бесплатно .txt) 📗
В интервью Мура сказала о себе довольно много, кое-что неумышленно путая, а кое-что умышленно искажая. В своем рассказе она вернулась к продолжению своего мифа, раскрашивая его и уси-ливая его контуры: женщина сильного, решительного, бесстрашного характера, вдохновительница, советница и помощница великих людей своего века. Она тогда только недавно «сделала» «Чайку» Чехова для Симоны Синьоре, Ванессы Редгрейв и Джеймса Мейсона. Она говорила о своей чудовищной выносливости и работоспособности, несмотря на артрит и две операции; о своей – с молодости – готовности принять в жизни все, выйти из всех трудностей и никогда ничему не удивляться. Ее широкое лицо, в старости несколько скуластое, серьезный взгляд, мужской голос не оставляли сомнений в том, что она говорит то, что думает. В квартире все было, как если бы это был не 1970 год, а 1870-й: старая мебель, обитая бархатом, теснота, картины, банки со сластями, старые фотографии, бутылки, пыльные безделушки на этажерках и вышитые скатерти. Какой-то вышитый коврик с портретом Николая II и его семьи, подаренный ей Уэллсом, и небольшой портрет Горького маслом (вероятно, кисти Ракицкого). В своем рассказе она упомянула дом отца в Петербурге, в стиле «рококо», где она когда-то жила и танцевала котильоны (в «Списках домовладельцев г. Санкт-Петербурга», во всех трех изданиях между 1899 и 1912 годами, мне не удалось найти имени И. П. Закревского). Она затронула историю дружбы с Локкартом, которого арестовала ВЧК, заподозрив его в желании убить Ленина, и ее собственное заключение, из которого ее «освободил Горький», когда она бежала из Петрограда; упомянута была многолетняя дружба с Кордой, которому она помогла стать тем, чем он стал и у которого она работала на постоянном жалованье и направляла его во всех его постановках; а после его смерти она сотрудничала со Шпигелем, когда он делал «Лоуренса Аравийского». Она перевела «Трех сестер» в 1967 году, и «Ларри» (Оливье) поставил пьесу с огромным успехом в своем театре в Лондоне. Она сама тоже появлялась изредка (в немых ролях) в кинофильмах, как, например, в «Николае и Александре»… В этом интервью она не касалась политики, но сказала, что считает, что новые эмигранты, приезжающие теперь из Советского Союза в Европу, должны бы были оставаться на своей родине, что непатриотично бросать место, где родился, и делаться гражданином другой страны.
Многое в этом интервью прозвучало так же нереально, как и ее прогулка в универсальный магазин или ее поездка из Москвы в Эстонию в 1918 году; крепость ее и стойкость, которыми она гордилась, были окрашены в какой-то призрачный, слегка искусственный цвет, и контуры рисунка были затушеваны. Но, может быть, память ее уже была не так хороша, как в старые годы, не так несокрушима и гибка, а воображение не так упрямо, как раньше, играло своими завитками, и сказка, созданная больше полувека тому назад, вдруг стала терять в строках английской репортерши свою плоть и кровь.
Три самостоятельные путаницы запутывали интервьюера и, может быть, даже ее самое: первая касалась ее свидания с мужем, Бенкендорфом, когда она призналась ему, что любит другого (Локкарта), а он, муж, в это время был на войне. С опасностью для жизни она поехала к нему, чтобы только сказать ему об этом. Он ушел от нее и был убит.
Вторая касалась ее двух арестов в Петрограде (о первом, в Москве, она, видимо, забыла). Горький два раза ее спас, причем первый арест был за побег за границу (это был третий арест, второй был за фальшивые продкарточки, когда она Горького еще не знала).
Третья путаница была с Кембриджем. «Я кончила Кембридж», – сказала она, и это могло значить и Кембриджский университет, где Мура не училась, и – может быть – курсы английского языка для молодых иностранных барышень, где Мура пробыла одну зиму.
Эти путаницы напоминают ее разговор с Луи Фишером о прощании с Горьким перед смертью: «В 1936 году?» – спросил Фишер. «Нет, – ответила она, – в 1935-м». Фишер спросил: «В Москве?» – «Нет, в Берлине». Но конгресс, на который Горького сперва не пустили, а потом он заболел, был в 1932 году, когда он еще окончательно не переселился с семьей в Россию. Ей в 1932 году не нужно было прощаться с ним, она после этого была два раза в Сорренто и простилась с ним в мае следующего года в Стамбуле, вероятно, в те дни никак не думая, что последнее прощание их состоится в Москве ровно через три года. Но путаницы эти поддерживали миф, и миф все еще служил ей, его основа оказалась столь же жизнеспособной, как и Мура сама.
Она родилась между 1890 и 1900 годом, то есть она принадлежала к тому русскому поколению, которое на три четверти было уничтожено – сперва первой войной, потом войной гражданской. Часть уцелевших погибла в «красном терроре», не приняв Октября, а остальные, принявшие, – в чистках. Многие из тех, что ушли в эмиграцию, не зная иностранных языков, оказались деклассированными париями, а некоторые вообще недоучились, потому что не успели. Рожденные в начале последнего десятилетия прошлого века, они родились слишком рано, чтобы принять меняющуюся Россию, а те, которые родились в самом конце его, старались уйти в западную жизнь, и некоторым это удалось. Были, однако, и другие, – и их было немало, – которые закончили свои, еще не старые, жизни в германских лагерях смерти. «Погибнуть» в те времена и в России, и в Европе не всегда значило умереть, это очень часто значило: продолжать жить, но быть раздавленным войной, тюрьмой, ссылкой, отверженностью, нищетой, одиночеством, изгнанием. Рожденные рано оказались травмированы потерями, рожденные поздно – не окрепли достаточно, чтобы начать новую жизнь на Западе, измениться и вырасти вместе с веком. И Мура, как тысячи других, должна была потеряться, если бы каждый день, каждый час не был борьбой, не вызывал бы на поединок. Она, наследница, как и миллионы других, уродливых принципов прошлого, калечащих табу и викторианских суеверий XIX века, была приготовлена к жизни ее класса, легкой, сытой, праздной и бессмысленной, и затем – выброшена в мир, где все трещало, и рушилось, и строилось и где в течение пятидесяти последующих лет новые люди, и новые идеи, и новые способы борьбы и выживания, и уничтожения, и обновления изменили и омолодили мир. В этом мире старая ветошь шести или семи европейских монархий развалилась, понятие «великодержавности», в которой она была воспитана, исчезло, а «великие люди» стали либо в грош не ставить свое величие, либо использовали свое величие для уничтожения себе подобных.
Ей предстояло, как всему ее классу, узнать бездомность, страх, милостыню, безумие, самоубийство; вокруг нее шла трагедия исторического масштаба, отраженная, как в метафоре, в ее бегстве по льду Финского залива из карельской тундры в Европу. Но она не цеплялась за свое сладкое и лживое прошлое, не притворялась беспомощным паразитом, не пряталась от предложенных ей судьбой задач, не оправдывалась женской слабостью в сделанных ошибках.
Лгала ли она о себе легко и просто или, наоборот. – трудно и мучительно? Она придумала свой аристократизм, но она в то же время всем своим поведением открывала о себе людям больше, чем многие вокруг нее, и, хотя и сожгла все свои бумаги, оставила по себе след. Она не скрывала ни своего возраста, ни своего чудовищного веса, ни потребности в выпивке, все больше с годами хвастая знаменитыми любовниками и знаменитыми друзьями, и славными предками, получавшими титулы из рук царей, и бабками-красавицами, которых обессмертили поэты; кряхтя от артрита, она поднимала широкие юбки и показывала свои громадные, опухшие колени, говоря, что иногда не может вспомнить улицу, на которой живет, признаваясь, что больше всего на свете она теперь любит вкусно и тяжело поесть, много и сладко выпить.
Она росла среди людей, которые жили (или делали вид, что живут) для спасения в будущей жизни, веря в ее награды; затем она жила среди людей, которые жили для будущих поколений, веря (или стараясь верить), что мир идет к сияющему для всех и каждого прогрессу; но она сама жила для данной минуты и иначе жить не умела, она жила для самой жизни и в этом видела один-единственный ей понятный смысл.