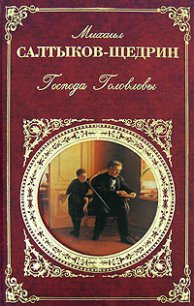Салтыков-Щедрин - Тюнькин Константин Иванович (читать книги онлайн .TXT) 📗
Прошло всего каких-нибудь три месяца службы Салтыкова в Рязани, как Болдарев уже «конфиденциально» доносит министру внутренних дел, что управляющий Казенной палатой настраивает «в духе крайнего либерализма» оппозиционно настроенных по отношению к государственной власти лиц и тем самым препятствует ему, носителю этой власти, успешно управлять губернией. Ознакомившись с этими доносами Болдарева и в ответ на них шеф жандармов, все тот же Петр Андреевич Шувалов, конечно, не забывший смелых «афронтов» Салтыкова, дает ему такую выразительную характеристику, которая безусловно предполагала удаление Салтыкова с государственной службы:
«...Действительный статский советник Салтыков нигде не пользовался сочувствием и расположением общества и действия его, хотя во многих случаях похвальные в служебном отношении, подвергались часто осуждению, точно так как поведение и личные качества его всегда более или менее вредили его частным отношениям: это было в Рязани и Твери, когда он был там вице-губернатором, затем, состоя в должности председателя Пензенской казенной палаты, он успел поссорить губернатора с дворянами, а в бытность его управляющим Тульскою казенною палатою он своими поступками возбудил общее неудовольствие и порицание, так что тульский губернатор находил совместное служение с ним невозможным...
Ввиду всего этого и усматривая из письма рязанского губернатора, что Салтыков продолжает следовать своему направлению, я полагал бы необходимым удаление его из Рязани с тем, чтобы ему вовсе не была предоставлена должность в губерниях, так как он по своим качествам и направлению не отвечает должностям самостоятельными.
В III отделении была составлена особая записка, в которой Салтыков был назван «чиновником, проникнутым идеями, несогласными с видами государственной пользы и законного порядка».
До предельного накала вражда с Болдаревым дошла в мае месяце. Салтыков пишет прошение об отставке с поста управляющего рязанской Казенной палатой и с «причислением» к министерству. Но ни о каком «причислении» уже не могло быть и речи. На верхах самодержавной власти нарисовался вполне определенный портрет Салтыкова — «беспокойного человека», зло осмеивавшего бюрократию и дворянство, два столпа, на которых покоилось самодержавие. 14 июня 1868 года высочайшим приказом он был отставлен. Салтыков говорил позднее доктору Белоголовому, что его уволили в отставку по личному желанию царя.
Через много лет он признавался, что о времени своей службы, приносившей ему, до крайности возбудимому, горячему и страстному, впечатления только горькие и мучительные и при этом налагавшей труды, требовавшие неимоверной работоспособности, траты творческих сил и огромного нервного напряжения, — о долгих годах службы он старается забыть. Но забыть всего пережитого за двадцать лучших, молодых лет жизни было невозможно, да Салтыков и не забывал: ведь именно во время службы открывались ему каждый раз, при каждой жизненной встрече — с мелким канцелярским писцом или губернатором, с раскольником или торговцем, с губернским предводителем дворянства, владеющим многими тысячами десятин земли, или безземельным мужиком; в бесконечных, измеряемых десятками тысяч верст разъездах по неизмеримым просторам земли русской — открывались ему все новые и новые пласты российской действительности, до конца дней питавшие его проницательнейшую мысль и гениальное художественное творчество.
Теперь Салтыков уже навсегда возвращался в Петербург, к любимейшему литературному делу. Он как-то сказал писателю Петру Дмитриевичу Боборыкину: «Без провинции у меня не было бы и половины материала, которым я живу как писатель. Но работается мне лучше всего здесь, в Петербурге. Только этот город подхлестывает мысль, заставляет уходить в себя, сосредоточивает замыслы, питает охоту к перу». Литературное дело становится единственным делом жизни.
В Петербурге перо Салтыкова уже не медлит в опасении злобного ненавистничества со стороны рязанских или каких-либо иных историографов. Он резок и откровенен.
А что же «сиволапый» русский мужик (четвертое «Письмо из провинции»)? Он-то хоть понял суть «19 февраля», смысл своей пресловутой «правоспособности»? Ведь все эти историографы, пионеры, складные души, фофаны «сочиняют историю», раздорствуют, пререкаются и суесловят лишь на поверхности того огромного моря народной жизни, в недрах которого живет и трудится русский мужик. Все они копошатся в верхних слоях глуповского горшка, в глубине же варится все тот же сиволапый.
Предположим даже, что «какой-нибудь остервенившийся историограф, — пишет Салтыков в четвертом письме... — нигилистов истребил, коммунистов разорил, демократов разгромил, науку упразднил» и вот теперь торжествует, почивает на лаврах и танцует канкан. Но канкан легко и беспрепятственно танцуется где-нибудь в петербургских увеселительных заведениях, а не здесь, в провинции. Мы, провинциалы, «слишком стеснены окружающими сиволапыми мужиками, чтоб иметь возможность поднимать ноги до надлежащего уровня». Вот от этих-то сиволапых мужиков и исходят всяческие неурядицы и возникают всевозможные преткновения, которые требуют «непременной и безотлагательной работы мозгов; возбуждаются вопросы, тоже без участия мозгов отнюдь не разрешимые; среда сиволапых дает себя чувствовать все стеснительнее и стеснительнее».
И тут историограф начинает воздвигать твердыни, укрепления и окопы, дабы скрыться за ними, закупориться как в бутылке от ужасной необходимости «двигать мозгами» ввиду наплыва сиволапых мужиков. Что же это за твердыни? «Тут есть и насилие, и самоуправство, и безответственность поступков, и бесцеремонное отношение к человеческой личности. И весь этот хлам, весь этот брак кой-как слеплены собственными слюнями историографов».
Но можно ли отсидеться в таких глуповских твердынях, можно ли надеяться на их непреоборимость? И тут историографы находят себе опору в паразитическом «чужеядстве» — «этом вреднейшем наследстве нашего прошлого».
Салтыков, провинциальный чиновник, хорошо помнил, как в совсем недавнее, дореформенное время, чужеядство заполняло собою каждодневное бытие целых губерний. Почти с ужасом вспоминаются автору «Писем о провинции» многочисленные губернские и уездные виртуозы по части зверства, устроивания внезапных смертей, выдумывания небывалых преступлений и, напротив, сокрытия преступлений действительных, бывалых. Воровство и казнокрадство считались чуть ли не подвигом, ими открыто хвастались, в них не видели ничего безнравственного. Закон, конечно, существует, но имеются тысячи способов обойти его: дела о преступлениях исчезали, присутственные места сгорали со всеми уликами, необозримыми ворохами дел и бумаг. Много раз бился Салтыков, ревизуя местные учреждения, и не раз ему доводилось упираться в стену, в которую как ни стучи, ни до какого ответа не достучишься...
Салтыков опять вспоминает 19 февраля. «Всему этому беспутному, бессознательному и ненужному злодейству, всем этим подвигам тьмы и бессмысленного варварства положило безвозвратный конец 19 февраля. Как бы ни были обширны наши притязания к жизни, мы не можем не удивляться великости этого подвига. Разом освободить из плена египетского целые массы людей, разом заставить умолкнуть те скорбные стоны, которые раздавались из края в край по всему лицу России — такое дело способно вдохнуть энтузиазм беспредельный!» И таким энтузиазмом «освобождения» и «возрождения» был действительно проникнут на рубеже пятидесятых-шестидесятых годов Михаил Евграфович Салтыков — один из замечательнейших деятелей крестьянской реформы — освобождения от бесправия и рабства «сиволапого мужика». Салтыков, однако, не заблуждался относительно характера самого реального «историографского» проведения реформы, последующих ее результатов, все более и более выяснявшихся. Салтыков понимал, что дело далеко не кончено. Ведь «за работой освобождения» должна следовать «работа организации». Недостаточно провозгласить реформы, надо сделать их достоянием народных масс, для которых, собственно, они и задумываются и проводятся. И тут, оказывается, что чужеядство-крепостничество не умерло! Оно, одевшись в мантию консерватизма, тормозит правильное развитие реформ, хотя кое-кому представляется, что консерватизм будто бы несет в себе нечто здравое, а, кроме того, надо же куда-нибудь пристроить, как-нибудь определить то сословие, которое, собственно, и символизирует чужеядство, то есть дворянское сословие.