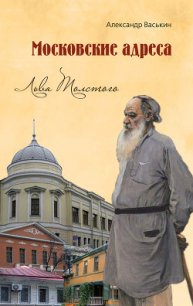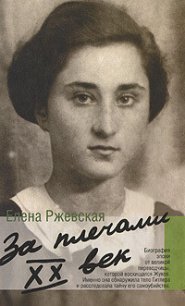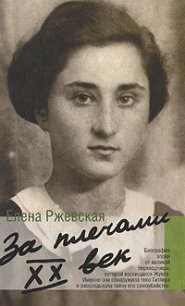Ближние подступы - Ржевская Елена Моисеевна (читать книги онлайн полные версии .TXT) 📗
"Согласно сообщению отдела печати имперского правительства, исполнение произведений русских композиторов впредь запрещается.
Также публичное исполнение русских народных песен и рассмотрение и упоминание в прессе произведений русского происхождения является недопустимым".
Ночью включишь радио: женский бесстрастный дикторский голос: "Кро-во-пролит-ное сраже-ние на юге. Точка. На-ша ро-ди-на в опас-нос-ти. Точка. Повторяю. Наша родина в опасности. Точка".
Эту вытяжку из газет принимают сейчас радисты в партизанских лесах.
Механический, бесцветный радиоголос со всей неотвратимостью гвоздит и гвоздит по сердцу: "Судь-ба нашей стра-ны решается в боях на юге. Точка. Повторяю. Судьба…"
Тишина за палаткой. Хруст сучьев. Возгласы часовых.
На рассвете 30 июля, еще до назначенного часа наступления пошел дождь. Все было наготове, и наступление не отменялось.
Артиллерия двухчасовой подготовкой обрушилась на оборону врага. Два месяца накапливались в армейских <50> складах снаряды, чтобы грохнуть по врагу, смять его оборону.
Дождь то затихал, то снова неистово лил. В бой пошла пехота, танки. Немцы побежали. Их преследовали полки. Танки вырвались вперед, но стали в размытой дождем низине. Самолеты не могли подняться в воздух, и артиллерию засасывало в болотной жиже, и она не могла передвинуться на новые позиции. Пехота осталась одна, без поддержки.
Немцы отступили на вторую линию обороны и опомнились. Ожесточенный шквал огня ударил по нашей пехоте. Пехота залегла. Немцы шли в контратаку. Наша пехота отбилась, вгрызаясь в землю.
Ночью тягачами тянули из низины засосанные танки назад. Противник в темноте густо садил снарядами по низине.
Задача наша, ржевского плацдарма, — не допустить отвода отсюда немецких дивизий на юг, сковывать их силы здесь, вызывать огонь на себя, навязывать бои, вынуждать их оттягивать с юга сюда против нас дивизии на подкрепление.
А сверхзадача — прикрывать Москву. И для этого — выбить их из Ржева.
— Четвертого августа снова в наступление. Наше направление: Погорелое Городище — Ржев. Еще в таких тяжелых боях не доводилось. Мы форсировали Рузу, Вазузу. Места заболоченные, и как кто нарочно: повседневные проливные дожди. Танки, артиллерия, склады — все отстали от пехоты. На руках пришлось носить боеприпасы, продовольствие. Все воины, мы день и ночь под дождем, мокрые, но духом не падали. А как взяли Погорелое Городище — сбили на станции ихний фашистский флаг и вывеску немецкую, и за этим делом как раз нас фотографировали корреспонденты.
— Это ведь только сказать легко: убьют, укокошат. А подумать только, что не кого-то, а тебя самого — и убьют. <51>
— А по мне, хоть ты кто будь, а терпи.
— Ах ты, Еноха-праведный.
Я отпала от прежнего мира — от дома, семьи, друзей. Тут все иначе. Попутчиков тут не выбирают. Какие есть — и те погибают.
Номер газеты "Фолькишер беобахтер": "6 августа 1942 г… и сегодня враг под Ржевом во взаимодействии с сильными бронетанковыми частями продолжал свои наступательные действия, расширяя их на соседние участки фронта. Сильные бои продолжаются".
— Дождик прошел.
— После дождика тё-опло. Грибы пойдут.
Поначалу вся напасть войны олицетворилась в Гитлере. Бандит, душегуб, ирод проклятый — из-за него все муки войны.
А по мере того как длится и ширится война, немецкие солдаты, их смертоносная армия, танки, мотоциклы, самолеты со свастикой, захват наших земель, насилие, ненавистью разжигающее душу все немецкое и все немцы воссоединились с Гитлером, в нем. Гитлер — это теперь коллективный образ фашистов.
О последствиях своего проступка обычно говорили:
— Дальше передовой не пошлют.
Теперь чаще услышишь:
— Дальше смерти не пошлют.
Написала в письме к родным: "Я здорова, бодра, вполне освоилась и подготовилась ко всему происходящему". Хотела добавить что-нибудь, но не смогла. Само собой, и цензурные соображения, но больше душевные причины.
И не выговоришь о том, как живешь. Страшишься фразы.
Ведь почему-то сейчас, когда на юге все тяжелее и судьба войны тревожнее, — а может быть, именно <52> потому, — я живу с таким воодушевленным духом, вблизи бед и жертв, с готовностью к ним с какой-то непонятной, хмельной просветленностью и с такой горечью и теплом, что, вероятно, все это вместе называется — патриотизм.
Наш командарм Лелюшенко передал наверх боевое донесение: "Продолжаю выполнять прежнюю задачу, вести усиленную разведку с задачей захвата контрольных пленных и действовать отдельными отрядами, не допуская отвода сил противника с фронта армии".
Красноармеец, бежавший к щели, впопыхах, должно быть, обронил пилотку. Подполковник остановил его и давай распекать:
— У нас в деревне такому головотяпу указали бы: надень шапку, а то вши расползутся.
А над лесом уже черт-те что делается: разворачиваются, скрежеща, заходят на нас.
А красноармеец стоит по стойке "смирно", и подполковник словно и не прислушивается к самолетам, гудит свое.
Ведут фрица, зеленого в зеленом, всклокоченного, белоголового вражину в сапогах с прикрученными шпагатом рваными голенищами. Фашиста, сатану, гитлера — ведут.
Никто не упустит взглянуть на него. И взгляд у всех разный. И с бешенством, и с ухмылкой удовлетворения, и со снисходительностью к потерпевшему, и с угрюмым сочувствием, и с мстительным опасным прищуром, и с веселым — эхма, наша взяла! А еще и общее у всех во взгляде — любопытство.
Полог палатки опустился за немцем — развлечению конец. Кто сумел — ухватил, остальные не поспели.
— Во Франции в городе Божанси мы охраняли военнопленных-негров. О, это были славные пленные. Негры — большие дети! Там было хорошо.
Немец возбужденный, весь шарнирный какой-то, <53> руки и ноги выкручиваются туда-сюда. Моему предложению сесть на чурбак не внял или не услышал, спешит все выпалить.
И вот после Франции этот дьявольский поход в Россию, ваши болота и зима, партизаны. И вот что хуже всего — он вторую неделю на передовой. Это же дерьмо — убивать друг друга. Кто это придумал, пусть сам и воюет. Война вообще для тех, кому делать нечего, или для юнцов, которым заморочили головы, а он сыт по горло, и у него есть специальность, он столяр-краснодеревщик. И скажите, что за выгода ему или его жене, если будет победа, а он — мертв. Это же ясно как божий день. И он рад со всей, поверьте, искренностью, что его захватили в плен и покончено для него с этим походом. Война как-нибудь обойдется без него. И ему повезло, что вот он разговаривает с военной женщиной. Женщина в таких особых его обстоятельствах — это добрый знак, это знак милосердия, и он надеется, ему сохранят жизнь, а он не зря будет есть русский хлеб в плену, он готов работать и работать, как только немцы умеют. И — не австрийка ли вы, фрейлейн, так похожи!
— Нет, не австрийка. Еврейка.
Он замолкает, цепенея; его белая всклокоченная бедная головушка клонится, клонится, словно подставляя себя под расплату.
В палатке, где нас двое — он и я, — такая тишина, что слышно, как падает вода из рукомойника, прибитого снаружи к дереву.
Чтобы дым не вывинтился над лесом и не выдал наше становище, походная кухня поддерживает медленный, осторожный огонь. Листва глушит, валит поднявшийся дым, и его вкрадчивый съедобный запах, сочащийся по выломанным, вытоптанным просекам, чует наш звериный ликующий нюх.
Позвякивают пустые котелки на просеках, стягивающихся к железному чреву на походных колесах. И чего б там в нем ни было — с пылу с жару, — только давай. Присев на пеньки, на землю, на сваленные деревья, уписываем смачно, истово, как на последнем пиру.