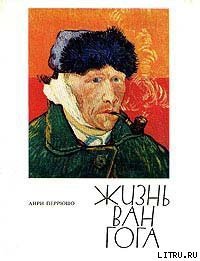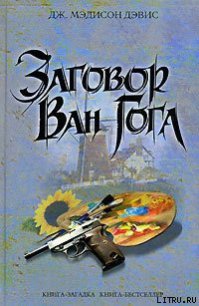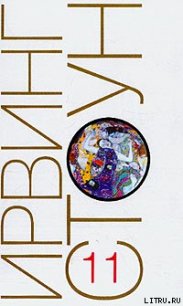Жажда жизни - Стоун Ирвинг (хороший книги онлайн бесплатно .txt) 📗
– Неужели вы смотрели на нее все это время? – изумился Винсент.
– Да, да, она постепенно до меня доходит, она доходит, я уже начинаю чувствовать ее.
– Извините меня, доктор Гаше, за нескромный совет, но это великолепный Гийомен. Если вы не вставите его в раму, он погибнет.
Гаше даже не слушал Винсента.
– Вы утверждаете, что следовали в рисунке Гогену... Я не могу согласиться с вами... эти резкие контрасты цвета... Они убивают всю ее женственность... нет, не то чтобы убивают, но... да, да, пойду посмотрю на нее снова... она постепенно доходит до меня... понемногу... вот—вот, кажется, и сойдет с полотна!
Весь остаток дня Гаше метался около арлезианки, тыкал в нее пальцем, всплескивал руками, без умолку тараторил, задавал бесчисленные вопросы и сам же отвечал на них, принимая все новые позы. Когда наступил вечер, арлезианка окончательно завоевала его сердце. На доктора снизошло радостное успокоение.
– Ах, как она трудна – простота, – произнес он, стоя перед портретом, умиротворенный и измученный.
– Да, трудна.
– А эта дама прекрасна, прекрасна! Никогда я не чувствовал характер так глубоко.
– Если она вам нравится, доктор, – она ваша. И этюд, который я написал сегодня в саду, тоже ваш.
– Но зачем же вы дарите мне картины, Винсент? Ведь это ценность.
– Скоро наступит время, когда вам, может быть, придется заботиться обо мне, лечить меня. У меня не будет денег, чтобы заплатить вам. Вместо денег я плачу вам полотнами.
– Но я и не хочу лечить вас ради денег, Винсент. Я сделаю это из дружбы к вам.
– Значит, так тому и быть! Я тоже дарю вам эти картины из дружбы.
Так Винсент снова вступил на стезю живописца. Он лег спать в девять, вдоволь насмотревшись, как под тусклой лампой кафе Раву рабочие играли в бильярд. Встал он в пять утра. Погода была чудесная, солнце светило мягко, долина сияла свежей зеленью. Долгий недуг и вынужденная праздность в приюте святого Павла давали себя чувствовать: кисть выскальзывала у Винсента из пальцев.
Винсент попросил Тео прислать ему книгу Барга, чтобы упражняться, копируя оттуда рисунки, так как боялся, что если он не будет опять постоянно изучать пропорции обнаженного тела, ему это даром не пройдет. Винсент все время присматривался, нельзя ли найти в Овере маленький домик и поселиться тут навсегда. Ему не давала покоя мысль: а вдруг Тео был прав, когда говорил, что где—то на свете есть женщина, которая соединила бы с ним свою судьбу. Он вынул несколько своих полотен, написанных в Сен—Реми, и кое—где тронул их кистью, стараясь довести до совершенства.
Но эта внезапная вспышка энергии скоро угасла – то был лишь рефлекс организма, еще слишком крепкого, чтобы поддаться разрушению.
Теперь, после долгого заключения в лечебнице, дни казались Винсенту неделями. Он не знал, чем их заполнить, так как писать с утра до вечера он уже не мог. Да у него уже и не было такого желания. Пока не стряслась беда в Арле, ему не хватало для работы и суток, теперь же время тянулось бесконечно.
Из того, что он видел, лишь немногое заставляло его взяться за кисть, а начав работать, он испытывал странное спокойствие, почти безразличие. Лихорадочной страсти писать всегда, каждую минуту, писать горячо и самозабвенно Винсент уже не испытывал. Он работал теперь словно бы для провождения времени. И если к вечеру полотно бывало не окончено... что ж, это его уже не трогало.
Доктор Гаше по—прежнему был единственным его другом в Овере. Гаше, проводивший почти все дни в своем врачебном кабинете в Париже, по вечерам нередко заглядывал в кафе Раву посмотреть на новые полотна. Винсент часто задумывался, видя в его глазах глубокую, безысходную печаль.
– Отчего вы так несчастны, доктор Гаше? – спрашивал он.
– Ах, Винсент, я работал столько лет... и так мало сделал хорошего. Врач видит только одно страдание, страдание и страдание...
– Я охотно поменялся бы с вами профессией, – сказал Винсент.
В грустных глазах Гаше блеснуло восхищение.
– Ах, что вы, Винсент, призвание живописца – самое прекрасное на свете. Всю жизнь я хотел быть художником... но я мог уделять этому час– другой лишь изредка, урывками... вокруг так много больных людей, которым я нужен.
Доктор Гаше встал на колени и вытащил из—под кровати Винсента груду полотен. Он поставил перед собой пылающий желтый подсолнух.
– Если бы я написал хоть одно такое полотно, Винсент, я считал бы, что моя жизнь не прошла даром. Я потратил долгие годы, облегчая людские страдания... но люди в конце концов все равно умирают... какой же смысл? Эти подсолнухи... они будут исцелять людские сердца от боли и горя... они будут давать людям радость... много веков... вот почему ваша жизнь не напрасна... вот почему вы должны быть счастливым человеком.
Спустя несколько дней Винсент закончил портрет доктора в его белой фуражке и темно—синей куртке, на чистом кобальтовом фоне. Лицо доктора было написано в очень красивых, светлых тонах, кисти рук были тоже светлые. Доктор Гаше сидел, облокотившись на красный стул, на столе лежала желтая книга и веточка наперстянки с лиловыми цветами. Когда портрет был готов, Винсент подивился тому, как разительно он напоминает его автопортрет, написанный в Арле еще до приезда Гогена.
Доктор влюбился в портрет до безумия. Никогда еще Винсенту не доводилось выслушивать столь пылкие похвалы и шумные восторги. Гаше настаивал, чтобы Винсент сделал для него копию. Когда Винсент согласился, радости доктора не было границ.
– Вы должны воспользоваться моим печатным станком, Винсент, – с жаром говорил доктор. – Мы привезем из Парижа все ваши полотна и сделаем с них литографии. Это не будет вам стоить ни одного сантима. Идемте, вы сейчас увидите мою печатню.
Они поднялись по приставной лестнице, открыли люк и влезли на чердак. Мастерская Гаше была набита такими таинственными, фантастическими инструментами, что Винсенту показалось, будто он попал в лабораторию средневекового алхимика.
Спускаясь вниз, Винсент увидел, что нагая женщина Гийомена по– прежнему валяется без всякого присмотра.
– Доктор Гаше, – сказал он, – я просто настаиваю, чтобы вы вставили эту картину в раму. Вы губите шедевр.
– Да, да, я давно собираюсь заказать для нее раму. Так когда же мы поедем в Париж за вашими полотнами? Вы можете печатать литографии в любом количестве. Я вам дам все материалы.
Май незаметно прошел, наступил июнь. Винсент писал католическую церковь на холме. К вечеру он сильно утомился и бросил полотно, не закончив. Огромным усилием воли он заставил себя написать поле пшеницы; он писал его лежа, почти зарывшись в пшеницу головой. Кроме того, он завершил большое полотно – дом госпожи Добиньи; изобразил на фоне ночного неба еще один дом – белый, с оранжевыми огнями в окнах, с темной зеленью деревьев и травы вокруг – все это было пронизано минорной нотой розового; вечерний мотив был и на другом этюде – два совершенно черных грушевых дерева с желтоватым небом на заднем плане.
Но живопись уже не приносила ему радости. Он работал по привычке, так как ему нечего было больше делать. Могучая инерция десяти лет огромного труда еще влекла его вперед. Но если прежде при виде живой природы его бросало в трепет, то теперь он оставался холодным и равнодушным.
– Я писал это столько раз, – бормотал он себе под нос, шагая по дороге с мольбертом за спиной в поисках мотива. – Мне нечего больше к этому добавить. Зачем повторять самого себя? Отец Милле был прав. «Я скорее предпочел бы вовсе ничего не делать, чем выразить себя слабо».
Но его любовь к природе еще не умерла – просто исчезла непреодолимая, жгучая потребность с жадностью наброситься на открывшийся пейзаж и воссоздать его на холсте. Он уже отгорел. За весь июнь он написал только пять полотен. Он устал, несказанно устал. Он чувствовал себя измученным, обессиленным, опустошенным – словно каждая из тех сотен рисунков и картин, которые одна за другой выходили из—под его руки в последние десять лет, отнимала у него по искорке жизни.