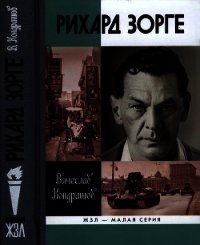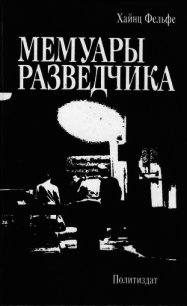Большая игра - Треппер Леопольд (лучшие книги TXT) 📗
Назавтра после моего прибытия в камеру является парикмахер. Он бреет меня, потом берется за ножницы.
— А теперь я тебя постригу.
— Но ведь я еще не осужден.
— Неважно,стригут всех, а будешь сопротивляться, выстригу крест на голове!
Надзиратели в Лефортово куда более неумолимы, нежели на Лубянке. Заключенный не знал ни минуты покоя. То и дело они открывали смотровой глазок и в течение часа раз по десять под самыми различными предлогами входили в камеру: «Вы слишком много расхаживаете, вы слишком долго сидите, вы недостаточно много двигаетесь и т. д.» И хотя мне казалось, что я уже знаком с рекордом скверного питания, однако кормежка здесь была еще хуже, чем на Лубянке.
Каждый вечер около десяти часов в тюрьме начиналась весьма оживленная ночная жизнь: непрерывное хлопание дверьми, звуки шагов тех, кого вели на допрос… Через несколько дней дошла очередь и до меня…
Допрашивающий меня капитан задавал мне странные вопросы:
— Не угодно ли вам объяснить мне, как это вы, польский подданный, вообще сумели попасть в Советский Союз? Кто вам помог?
Я называю несколько имен старых большевиков: Юлиан Мархлевский, Будзинский, Фрумкина… 116
— Вся эта сволочь разоблачена, все они — контрреволюционеры, вам об этом говорили?
— Что ж, скажу вам прямо, что горжусь своей принадлежностью к этой «сволочи»!
Он замирает и словно превращается в айсберг.
— Жаль, что вы покинули СССР, иначе ваша судьба была бы уже давно решена, и сегодня мне не пришлось бы терять с вами время!
И снова старая шарманка:
— Расскажите о ваших преступлениях против Советского Союза…
В течение всей серии этих допросов мне не задали буквально ни одного вопроса о моей работе во время войны. Равным образом ни разу не спросили про «Красный оркестр». Постепенно у меня сложилось представление, что я сижу в тюрьме единственно потому, что принадлежал к этой «банде» старых коммунистов, уничтоженных еще до войны. А то, что я еще жил, было «противу правила, и мои следователи хотели „исправить“ эту ошибку.
Однажды ночью, точнее, около четырех часов утра, когда я только вернулся после допроса к себе, дверь камеры отворилась и в нее вошли два надзирателя с носилками, на которых лежало безжизненное тело какого-то мужчины. Они сбросили израненного человека на вторую, до сих пор незанятую койку и, не сказав ни слова, удалились. Я подошел и промыл смоченным полотенцем распухшее лицо с многочисленными следами побоев. Человек хрипит и переворачивается на живот. Это офицер Красной Армии, которого подвергли «усиленному» допросу. Позже поутру надзиратели переносят его в другую камеру.
Вечером меня снова вызывают на допрос, его ведет полковник. Первый вопрос сопровождается ухмылкой удовлетворения:
— Что скажете насчет того, что увидели сегодня утром?
— Вы говорите о человеке, которого в весьма плачевном состоянии внесли в мою камеру?
— Конечно. Мы хотели вам показать, что можно сделать и с вами.
— Господин полковник, торжественно заявляю вам, что, если кто-нибудь из вас дотронется до меня хотя бы пальцем, вы никогда больше не услышите звука моего голоса. Если я подвергнусь столь недостойному обращению, то буду рассматривать вас как врагов Советского Союза и вести себя соответственно с этим убеждением, даже если мне придется расстаться при этом с жизнью!
Изумленный моим тоном, полковник с минуту разглядывает меня, затем начинает бушевать. Я вновь наслаждаюсь злобной тирадой, обогащающей мое знание русского словаря. Наконец он выходит, грохнув дверью.
Успокоившись, мой следователь призывает меня быть благоразумным и не провоцировать его. Но подобные увещевания мне ни к чему:
— Я не вижу в вас представителя Советской власти, — говорю я. — Есть у меня надежда, да, впрочем, и силы пережить вас, пусть хотя бы на один-единственный день. Что же до тех членов «банды», о которых вы недавно говорили и которых вы убили — здесь или где-то еще, то не стройте себе никаких иллюзий: вас постигнет точно такая же судьба.
— Почему вы меня оскорбляете? — возмущается капитан. — Я только лишь исполняю свой долг…
— Ваш долг? Вы, видно, считаете меня очень наивным и полагаете, будто я не знаю, что произошло после смерти Кирова? Здесь самая настоящая «чертова мельница», но не забывайте, что в этой «чертовой мельнице» было перемолото великое множество вам подобных, точно так же, как и тех, кто оказались их жертвами!
Он молчит. Вспышка гнева принесла мне какое-то облегчение. Прежде чем покинуть комнату, добавляю:
— Вы можете еще несколько лет говорить мне: «Признайтесь в своих преступлениях против Советского Союза!» Всегда вы будете слышать только один и тот же ответ: «Никаких преступлений против Советского Союза я не совершал!»
То была моя последняя встреча с этим следователем. Несколько недель подряд я провел в своей камере, как говорится, один-одинешенек. Однажды вечером дверь открывается… Сценарий остается неизменным:
— Забирайте вещи и следуйте за мной.
Снова переезд? Куда? К моему большому удивлению, я снова попадаю на Лубянку и не без некоторого удовольствия вновь водворяюсь в моей прежней камере: там я чувствую себя почти как дома. Две недели меня оставляют в покое, а потом, как-то около десяти вечера, меня вновь вызывают на допрос. Мое дело поручено новому следователю — полковнику.
Ему под сорок. Симпатичное лицо. Предлагает сесть. Атмосфера несколько непривычная. Он берет со стола коробку папирос «Казбек» и угощает меня. В годы войны я стал заядлым курильщиком, но вот уже три месяца как не притронулся к сигарете. Я смотрю на него… Смотрю на маленькую белую трубочку из бумаги, к которой меня ну просто безумно тянет, и говорю:
— Нет, благодарю, не курю!
Взять папироску — значит включиться в их игру. Это начало капитуляции. Его первый вопрос как-то странно отдается в моих ушах:
— Как вы себя чувствуете? Не измучились от всех этих допросов?
Так где же я — на Лубянке или в кафе? Давненько уже никто не интересовался моим здоровьем! Начальники следственного отдела явно переменили тактику… Полковник отпускает меня около двух ночи и поступает так и в дальнейшем. Что ж — значительный прогресс налицо! Новая методика продолжается в течение двух месяцев. Мой визави не ведет протокол, а только делает пометки. Часто и долго он говорит о Париже, Брюсселе, Риме и Берлине, я замечаю, что он знает всю Европу, понимаю, что имею дело с бывшим офицером разведки и бывалым «путешественником». Постепенно он начинает проявлять интерес к моей работе во время войны, справляется о развитии моего предприятия в Брюсселе, хочет знать, почему я выписал свою семью, просит рассказать про самый первый день войны на Западе. Любопытство его ненасытно. Во время наших «бесед» я убеждаюсь, что он прекрасно знает всю историю «Красного оркестра», но еще не усвоил, как именно функционировала эта организация, не представляет себе, как можно проворачивать операции такого большого масштаба, имея в своем распоряжении лишь несколько считанных специалистов-разведчиков. Этот вопрос буквально преследует его: «Красный оркестр» не укладывается ни в какие известные ему рамки организации разведывательной сети. Несколько ночей он не беспокоит меня. Я снова немного отсыпаюсь, снова начинаю на что-то надеяться. В конце концов, моя история окончится хорошо, утешаю я себя. Ведь мечтать не запрещается, даже в четырех стенах на Лубянке.
116
Руководительница «Бунда», после революции вступившая в большевистскую партию, ректор Коммунистического университета национальных меньшинств Запада им. Мархлевского (КУНМЗ). — Прим. авт.