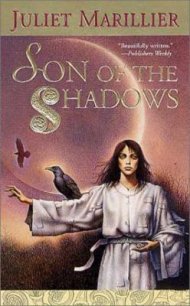Дягилев. С Дягилевым - Лифарь Сергей Михайлович (серии книг читать онлайн бесплатно полностью TXT, FB2) 📗
Павел Георгиевич, бледный, белый старик, входит в комнату, подходит к Сергею Павловичу, долго смотрит на него – у меня сердце разрывается за него, и я с трепетом, с дрожью жду, что вот сейчас произойдет что-то ужасное, – потом становится на колени, через минуту встает, по-русски широко крестится и отходит в сторону. Начинается панихида. Ночью мы втроем остались в комнате Сергея Павловича – Павел Георгиевич, Кохно и я. Беспокойная ночь с безумнейшей грозой (первая гроза разразилась в два часа дня, когда я оставался один с телом Дягилева): ветер-ураган валил деревья, молния прорезала комнату и странно освещала мертвое тело, как будто оживляла его. Весь день меня обжигала одна мысль: а что, если Сергей Павлович не умер? Ночью у меня начались галлюцинации: мне несколько раз казалось, что Сергей Павлович оживает и смотрит на меня, и я каменел от этого взгляда.
Перед зарей принесли гроб, Сергея Павловича положили в гроб с крестиком, который дала ему в руки тотчас же после смерти Мися Серт, все мы в последний раз поцеловали его в лоб, гроб запаяли и по парадной лестнице на руках снесли и опустили на charrette и повезли на пристань. Удивительное шествие – гроб Сергея Павловича везли по зеленому ковру: гроза поломала деревья и вся дорога была устлана сучьями, зелеными ветками и листьями. Гроб с венками (я заказал два венка: один от себя – «Au grand Serge» [360], другой – от труппы Русского балета) поставили на траурную гондолу (сбылось предсказание Сергею Павловичу, что он умрет на воде, – он действительно умер на воде, на острове), и большая черная гондола медленно повезла Сергея Павловича в греческую церковь в Венеции.
До выноса из церкви тела Сергея Павловича я держался и держал себя в руках; с этого момента начало сказываться то невероятное напряжение нервов, в котором я жил непрерывно – дни и ночи – с 8 августа, напряжение, принимавшее различные формы – от жестокого автоматизма первых дней до неестественного, сверхъестественного спокойствия, с которым я занимался туалетом умершего Сергея Павловича, и до галлюцинаций во время страшной ночной грозы. Нервы мои слишком напрягались, я весь насыщался электричеством, огненная грозовая разрядка была неизбежна. Действительно, я был близок к сумасшествию, к психическому заболеванию, психическому расстройству…
В Венеции Мися Серт приютила нас у себя в комнате, – мы не держались на ногах и едва ходили, я упал на ее постель и заснул мертвым сном. В десять часов Мися разбудила меня и повела в греческую церковь на отпевание. Мы подходим к церкви San Georgio de Sciavoni – церковь уже полна народу, Мися и Коко ведут меня под руки, я хочу войти в церковь и не могу: что-то меня не пускает, точно какая-то стена возникла перед церковью, через которую я не могу пройти. Я делаю усилия над собой, заставляю себя перейти преграду – и не могу. Этот необычный нервный припадок меня напугал: что со мной? Я схожу с ума? Эта мысль еще более меня испугала и парализовала мое движение. После нескольких усилий я вдруг бросился бежать – точно сломал, раздавил что-то твердое, несокрушимое, стоявшее между мною и церковью, – пробежал всю церковь и с ужасным криком упал в алтаре за иконостасом. Все подумали, что я сошел с ума.
После службы и отпевания замечательный кортеж (в нем была тихая, торжественная красота): опять на золотой, черной, великолепной, украшенной цветами гон доле плыли Мися Серт, Коко Шанель, Кохно и я; в другой, позади, в сопровождении вереницы других гондол – Павел Георгиевич. По сверкающей золотом синей глади Адриатики гроб повезли на остров San Michele и там на руках понесли к приготовленной могиле.
Я не хотел подойти к могиле, боялся смотреть, как будут опускать в землю гроб, стоял отвернувшись в стороне и тупо, исступленно мычал. Павел Георгиевич пришел за мной («Сережа, родной мой, идем, опускают гроб»), я не пошел, а почти пополз, ноги дрожали и сгибались от какого-то внутреннего страха, как будто, чем ближе к земле, тем менее страшно, менее видно; с тем же внутренним страхом-дрожью выслушал последние слова священника, что-то подавляя в себе, что-то сдерживая и преодолевая. Священник берет лопаточкой землю и бросает в могилу на гроб – какой ужасный звук! Я тоже беру землю и хочу бросить, но тут не могу больше сдерживать в себе какой-то растущей во мне не моей силы, которая охватывает меня, как одержимого, и разрушает, сметает мое сдерживание, – и бросаюсь, как обезумевший, в могилу… Десять рук меня схватывают и едва удерживают – такая неестественная сила появилась во мне – и выносят с кладбища.
Тихо, торжественно-тихо на острове San Michele, где покоится Сергей Павлович.
«…Venise, l’inspiratrice eternelle de nos apaisements» [361].
На памятнике Дягилева высечены слова, взятые мною из его записи на первом листе тетради, подаренной им мне для записей уроков Чеккетти:
«Желаю, чтобы записи учения последнего из великих учителей, собранные в Венеции, остались так же тверды и незабвенны, как и сама Венеция, постоянная вдохновительница наших успокоений. Сергей Дягилев. Венеция – 1926».
Моя жизнь

Глава первая
Это был год смуты и потрясений. Моя родина Россия охвачена войной. Из глуби Сибири приходят вести о катастрофах: Порт-Артур капитулировал, наша армия разбита, флот уничтожен. Это полный разгром. Но еще до фатального исхода волнения происходят и внутри страны. Стачки, «Кровавое воскресенье» 9 января – следствие растерянности, уступчивости царя, поддавшегося силам реакции. То был год, когда восстал броненосец «Потемкин».
Грохот Истории раздавался по всему миру. Император Вильгельм II высадился в Танжере, рискуя спровоцировать всеобщую войну. Сунь Ятсен, будущий президент Китайской республики, создавал свою революционную партию.
Это еще не были революции, но они уже предвещали все катаклизмы века. История как бы тайно готовила глубокие преобразования: была опубликована теория психоанализа Фрейда; прозвучала импрессионистская музыка Дебюсси («Море»); возникали скандалы вокруг первых полотен фовистов; Сергей Дягилев устраивал в Санкт-Петербурге грандиозную выставку искусства XVII и XVIII веков, прежде чем год спустя окончательно расстаться с Россией; Эйнштейн открывал фотоны. Все силы, которые явят образ XX века, действовали. Рождался новый мир.
Обо всем этом я узнал позже, гораздо позже. Но для меня этот год знаменателен другим – тем исключительным, о чем не имеют воспоминаний, однако думают впоследствии с особым чувством: в 1905-м, в разгар всех пертурбаций, я появился на свет.
Итак, я родился 2 апреля 1905 года. В Киеве, где прошло все мое детство. Детство… Как это слово сохраняет на всю жизнь силу своего излучения! Но как, однако, может и изменяться образ детства, по мере того как проходит время. Свои детские годы я воскресил уже в книге воспоминаний [362]. Но теперь, спустя годы, когда моя жизнь приняла форму судьбы, я вижу детство в иной перспективе, в ином свете, более нежном и вместе с тем более значительном. Полагаю, что, описывая его сегодня, я невольно придаю меньше значимости личностям.
Как и подобает, по-моему, всякому счастливому детству, для меня главными фигурами были отец, мать, так же как братья и сестра. Мы жили вместе в большом доме, находившемся в квартале близ университета. Мой отец, служащий государственного департамента вод и лесов, являлся в моих глазах авторитетом, предполагающим доверие, но также поучительность и дистанцию. Моя мать, красавица, соответствовавшая ее имени София, была нам ближе. По правде говоря, только значительно позже я смог по-настоящему понять, чем она была для нас, как она любила своих детей и на что была способна для них. Только потеряв ее, я отчетливо представил ее прекрасное лицо матового оттенка, какое позднее увидел у балинезиек, озаренное тем негасимым светом, который властвует над моей жизнью. Оба моих родителя были еще молоды, жили собственной жизнью. Естественно, что я не занимал в ней слишком много места.