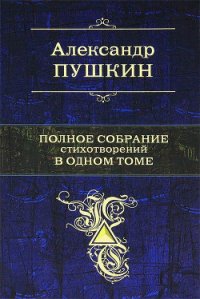Из зарубежной пушкинианы - Фридкин Владимир Михайлович (читать книги онлайн бесплатно полностью без сокращений .TXT, .FB2) 📗
В одном из последних болдинских писем к жене Пушкин возвращается к этой теме. «Женка, женка! Я езжу по большим дорогам, живу по три месяца в лесной глуши, останавливаюсь в пакостной Москве, которую ненавижу, — для чего? — Для тебя, женка; чтоб ты была спокойна и блистала себе на здоровье, как прилично в твои лета и с твоею красотою. Побереги же и ты меня. К хлопотам, неразлучным с жизнью мужчины, не прибавляй беспокойств семейственных, ревности etc, etc. Не говоря об cocuage[5]…»
Конечно, о Дантесе в это время и речи быть не может. Лишь через несколько месяцев, в начале 1834 года, будет издан приказ по Кавалергардскому полку о зачислении его в полк корнетом. Пушкин делает запись в дневнике: «26 января. Барон д’Антес и маркиз де Пина, два шуана, будут приняты в гвардию прямо офицерами. Гвардия ропщет». Дантес делает быструю карьеру. О Пушкине этого не скажешь (если слово «карьера» к нему вообще применимо). Месяцем раньше Пушкин пишет в дневнике: «1 января. Третьего дня я пожалован в камер-юнкеры (что довольно неприлично моим летам). Но двору хотелось, чтоб Наталья Николаевна танцевала в Аничкове. Так я же сделаюсь русским Dangeau». И далее «а по мне хоть в камер-пажи, только б не заставили меня учиться французским вокабулам и арифметике». Пушкину шел 35-й год. Какой-нибудь ничтожный Сергей Семенович Уваров получил этот придворный чин в 18 лет. Но Наталья Николаевна должна была появляться при дворе… И уже через три месяца Пушкин записывает в дневник: «6 марта. Слава Богу! Масленица кончилась, а с нею и балы… Все кончилось тем, что жена моя выкинула. Вот до чего доплясались».
Весною 1834 года Наталья Николаевна уезжает на лето в Калужское имение, Полотняный Завод. В одном из летних писем к жене Пушкин пишет короткую фразу, которая выражает все его чувства: тоску по жене и любовь к ней: «Я должен был на тебе жениться, потому что всю жизнь был бы без тебя несчастлив». И там же в письме: «Зависимость жизни семейственной делает человека более нравственным». В начале января 1836 года Пушкин писал П. В. Нащокину: «Мое семейство умножается, растет, шумит около меня. Теперь, кажется, и на жизнь нечего роптать, и старости нечего бояться». Чем враждебнее был светский Петербург, злее преследование цензуры, удушливее общественная жизнь и горше непонимание близких друзей, тем ближе и важнее была для Пушкина семья, его дом. Об этом хорошо сказал Ю. М. Лотман, когда назвал дом Пушкина, его семью «цитаделью личной независимости и человеческого достоинства». Это очень важно понять. Без этого не раскрыть ту психологическую драму, которая разыгралась в душе поэта в конце 1836 года, когда эта цитадель обрушилась.
К сожалению, ответные письма Натальи Николаевны нам неизвестны. Любила ли юная красавица своего мужа? Не раз высказывалось мнение, что она была неглубокой, поверхностной натурой, не понимала масштаба личности мужа, была безразлична к его творчеству, не разделяла его забот и что сердце ее не было разбужено, дремало до поры до времени, не зная любви. Давайте забежим вперед и прочтем известное письмо Натальи Николаевны брату Дмитрию Николаевичу, написанное в июле 1836 года и посланное из Петербурга в Полотняный Завод:
«Теперь я хочу немного поговорить с тобой о моих личных делах. Ты знаешь, что пока я могла обойтись без помощи из дома, я это делала, но сейчас мое положение таково, что я считаю даже своим долгом помочь моему мужу в том затруднительном положении, в котором он находится; несправедливо, чтобы вся тяжесть содержания моей большой семьи падала на него одного, вот почему я вынуждена, дорогой брат, прибегнуть к твоей доброте и великодушному сердцу, чтобы умолять тебя назначить мне с помощью матери содержание, равное тому, какое получают сестры, и если это возможно, чтобы я начала получать его до января, то есть с будущего месяца. Я тебе откровенно признаюсь, что мы в таком бедственном положении, что бывают дни, когда я не знаю, как вести дом, голова у меня идет кругом. Мне очень не хочется беспокоить мужа всеми своими мелкими хозяйственными хлопотами, и без того я вижу, как он печален, подавлен, не может спать по ночам и, следственно, в таком настроении не в состоянии работать, чтобы обеспечить нам средства к существованию: для того чтобы он мог сочинять, голова его должна быть свободна. И, стало быть, ты легко поймешь, дорогой Дмитрий, что я обратилась к тебе, чтобы ты мне помог в моей крайней нужде. Мой муж дал мне столько доказательств своей деликатности и бескорыстия, что будет совершенно справедливо, если я со своей стороны постараюсь облегчить его положение; по крайней мере содержание, которое ты мне назначишь, пойдет на детей, а это уже благородная цель. Я прошу у тебя этого одолжения без ведома моего мужа, потому что если бы он знал об этом, то, несмотря на стесненные обстоятельства, в которых он находится, он помешал бы мне это сделать. Итак, ты не рассердишься на меня, дорогой Дмитрий, за то, что есть нескромного в моей просьбе, будь уверен, что только крайняя необходимость придает мне смелость докучать тебе».
А если перечитать письма Пушкина к жене, то поражаешься, как много в них не только хозяйственных, но чисто литературных и издательских забот. Пушкин делится с женой самыми сокровенными и горькими мыслями о русской жизни, о «свинском Петербурге», где живешь «между пасквилями и доносами», о горькой судьбе писателя и журналиста в России. Это ей в том же 1836 году он напишет: «Черт догадал меня родиться в России с душой и талантом!» Но ведь это разговор с умным понимающим собеседником. Нет, не была Наталья Николаевна глупой, пустой и бездушной светской красавицей, хотя до ума и проницательности, например, Дарьи Федоровны Фикельмон ей наверняка было далеко. Она заботливая жена и хорошая мать. А что до сердца… Не будем забегать вперед. Подождем. Ведь у нас еще ранняя весна 1834 года.
Пока Жорж Дантес примеряет белый мундир и сверкающую золотом кирасу кавалергарда, знакомится с друзьями по полку, заводит дружбу с Александром и Сергеем Трубецкими, Адольфом Бетанкуром и Александром Полетикой, прозванным «божьей коровкой», заглянем в дневник Пушкина. 17 марта Пушкин пишет: «Много говорят о бале, который должно дать дворянство по случаю совершеннолетия государя наследника… Вероятно, купечество даст также свой бал. Праздников будет на полмиллиона. Что скажет народ, умирающий с голода?» На этот вопрос Пушкин уже сам ответил 7 ноября 1825 года, окончив «Бориса Годунова»: «Народ безмолвствует». Как все это современно, злободневно, не правда ли?
В тот же день Пушкин заносит в дневник: «Вчера было совещание литературное у Греча об издании русского „Conversation’s Lexicon“. Нас было человек со сто, большею частью неизвестных мне русских великих людей. Я подсмотрел много шарлатанства и очень мало толку… Вяземский не был приглашен на сие литературное сборище». Тоже звучит очень современно: неизвестные Пушкину великие люди от литературы. Правда, Союза писателей в то время еще не было. Или вот запись в дневнике 20 марта. «Третьего дня был бал у кн. Мещерского. Из кареты моей украли подушки, но оставили медвежий ковер, вероятно за недосугом». Пушкин писал о «телеге жизни», считая, что жизнь в России тащится, как телега. Нынче тоже с ветрового стекла автомашины снимают «дворники», и если оставляют радиоприемник, то исключительно «за недосугом». 2 апреля 1834 года в дневнике Пушкина появляется такая запись: «В прошлое воскресенье обедал я у Сперанского. Он рассказал мне о своем изгнании в 1812 году. Он выслан был по Тихвинской глухой дороге. Ему дан был в провожатые полицейский чиновник, человек добрый и глупый. На одной станции не давали ему лошадей; чиновник пришел просить покровительства у своего арестанта: „Ваше превосходительство! Помилуйте! Заступитесь великодушно. Эти канальи лошадей нам не дают“».
Когда-то могущественный министр при Александре, надежда свободомыслящей России, теперь — бесправный ссыльный, и ему не дают лошадей. Пройдет почти три четверти века, ничего не изменится, и Чехов напишет своего «Хамелеона». Ничего не изменится и позже. «Говорят, — пишет в дневнике Пушкин 16 апреля, — будто бы на днях выйдет указ о том, что уничтожается право русским подданным пребывать в чужих краях. Жаль во всех отношениях, если слух сей оправдается». Тогда слух оправдался, но частично. Полностью он оправдался сто лет спустя. А вот как Пушкин пишет в дневнике о царе. Московская почта перлюстрировала его письма к жене. Пушкин замечает 10 мая: «…я могу быть подданным, даже рабом, но холопом и шутом не буду и у царя небесного. Однако, какая глубокая безнравственность в привычках нашего правительства! Полиция распечатывает письма мужа к жене и приносит читать их царю… и царь не стыдится в том признаться — и давать ход интриге, достойной Видока и Булгарина!» А вот запись, сделанная 21 мая: «Кто-то сказал о государе: „В нем много от прапорщика и немного от Петра Великого“».