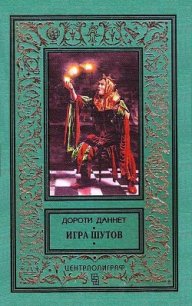Красные стрелы - Шутов Степан Федорович (читаем книги онлайн txt) 📗
— Товарищ Шутов, ты самый молодой коммунист, выступи, — советует командир полка.
Послушно поднимаюсь на платформу, подхожу к гробу. Многое хочется сказать, но сердце щемит и дыхание захватывает.
— Клянемся тебе, товарищ комиссар, что большевики полка теснее сомкнут ряды! — голос звучит глухо, будто не мой. — Клянемся, что всегда будем на правом фланге борцов за Родину!..
Кончилась гражданская война. Изгнаны с советской территории войска оккупантов. Наша страна приступила к мирному социалистическому труду.
В один прекрасный день поступил приказ: меня увольняют из армии. Почему? Мой год, оказывается, еще не подлежит призыву.
Расставание трогательное. Своего боевого друга Каштана передаю молодому красноармейцу, парню из Вологды. Гляжу на него с затаенной завистью. Даю ему повод уздечки, а Каштан, нервно пританцовывая тонкими ногами, отфыркиваясь горячим паром, сует морду мне под руку.
После торжественной передачи коня Коваленко отводит меня в лесок. В глаза не смотрит, будто провинился передо мной.
— Ладно уж, не хнычь! — произносит после долгого молчания. У него морщится лоб. Говорит медленно, подбирая слова. — Мне тоже, того… трудно с тобой распрощаться. Все-таки вместе, того… сам знаешь, шляхту рубили.
— Спасибо!
Пожимаю его большую, крепкую ладонь, а перед взором встает комиссар полка Леонов. Мне кажется, что и он со мной прощается. Из-под толстых стекол ласково улыбаются синие, васильковые глаза. Они как бы спрашивают: «Так как же, товарищ Шутов, насчет фланга?» Отвечаю: «Клянусь, товарищ комиссар, и на гражданке всегда буду на правом фланге…»
Таких, как я, уволенных в запас, довольно много. До ближайшей станции нас провожают с музыкой. Коваленко шагает рядом со мной. Все время молчит. Но когда уже слышно отдаленное шипение маневровых паровозов, он, подкручивая усы, нерешительно заговаривает:
— Степа, понимаешь, просьба к тебе…
Командир рассказывает, что у него под Киевом есть девушка. В селе Бортничи. Одна осталась. Мать умерла, отца петлюровцы расстреляли. Красивая. Частенько пишет ему, интересуется «насчет любви». Он не отвечает. Почему?! Неудобно про любовь писать. Домой вернешься — еще на смех поднимут.
— Тебя, — протестую, — героя гражданской войны, на смех?! Тебя, которого сам Тухачевский за храбрость отметил в приказе?! Чудишь, Коля, чудишь!
Коваленко смущенно молчит.
— Напиши ей письмо, — просит он, глядя в сторону. — Напиши, что я человек дисциплинированный и с девицами посторонними не вожусь. А про героизм, про командующего — не надо…
Поезд, еще до нашего прихода набитый битком, должен был уйти в одиннадцать утра. Двинулся же только на следующее утро. И то хорошо! Счастливчики, которые заранее захватили полки, загромоздили мешками, узлами и чемоданами проходы, потеснились, освободив места и для тех, кто «проливал кровь».
Я втиснулся между пожилым мужчиной в форменной фуражке инженера-путейца и молодой женщиной, от холода закутавшейся в розовое бумажное одеяло с голубыми полосами.
У путейца красные влажные веки, большой рот. При разговоре у него обнажаются бледные десны. У соседки — темные печальные глаза. Они, казалось, вобрали в себя все страдания, перенесенные за последние годы нашим народом.
На скамейке против сидели пять пассажиров. Особенно запомнился матрос исполинского роста, светловолосый, с большими карими глазами. Скуластое лицо и тяжелый подбородок говорили о сильной воле. Одежду матроса составляли черный бушлат, брюки клеш. Но в руке вместо бескозырки он держал скомканный шлем.
У нас было тихо. А из других купе доносились голоса, иногда слышались брань, выкрики. Сначала я улавливал только отдельные слова, обрывки фраз. Потом за стеной кто-то злобно забасил:
— Ленин что — он не русский. Татарин вроде. Глаза у него какие? Узкие, азиатские…
От этих слов я вздрогнул. Посмотрел на матроса. Тот взглянул на меня, предостерегающе поднял руку: подожди, мол, не торопись!
Бас между тем продолжал:
— Ленин хитрый. Понял, что рабочий да мужик полками командовать не способные. Бывает, конечно, что и курица петухом поет… хи-хи-хи! Но если бы не царские генералы, нипочем бы Ленину не удержаться… Ленин их золотом приманил. Хитрый.
Матроса взорвало. Он вскочил, громко крикнул:
— Эй, контра, спусти воду! Не то я спущу!
В соседнем купе засмеялись. Путеец кашлянул в кулак. Глаза моей соседки одобрительно улыбнулись.
Бас откликнулся:
— Не стращай, не таких видали! Ишь какой командир нашелся!
Матрос локтями стал пробивать себе дорогу в сосед нее купе. Я хотел было двинуться за ним, но он легким движением руки посадил меня на место: один, мол, справлюсь.
— Контрреволюцию, гад, разводишь? — послышался голос матроса из-за перегородки.
— Сам ты гад! — огрызнулся бас. — Рот мне не закроешь. Теперь свобода. Что хочу, то и говорю.
— Правду говори. Будешь брехать про Ленина, дух из тебя вышибу. Понял?
— А что я брешу? — возмутился бас. — Мало в Красной Армии генералов? Ну скажи: мало?
— Не об этом речь, — парировал матрос. — Генералы и офицеры, которые в Красной Армии, сами к Ленину пришли. Он их не приманивал…
— Это все агитация.
— Нет не агитация! А что касается того, будто рабочий и крестьянин не могут полками командовать, так и здесь брехня. Сколько солдат армиями да дивизиями командовали, а ты— «не могут»!.. Возьмите, граждане, — обратился матрос уже ко всем пассажирам, — хотя бы Чапаева или Щорса. Какие же они генералы?
В вагоне послышался одобрительный гул. Моя соседка тоже оживилась:
— Правильно матрос говорит. Муж у меня батраком был. А теперь — командир Красной Армии. Главный начальник у него Блюхер. А сам Блюхер до войны на Мытищинском заводе вместе с моим братом работал.
Путеец кашлянул в кулак, потом спрашивает:
— Буденный, говорят, тоже будто из простых, казак с Дона.
По всему вагону слышатся голоса:
— Фрунзе кто? Сын фельдшера.
— У Щорса отец машинист.
— Егоров сам кузнецом был…
— В отпуск приехал? — спрашивает радостная мать. — На сколько?
Такой же вопрос задают при встрече товарищи, знакомые жители Дворца, Заполья, Городища.
— Насовсем, — отвечаю всем одинаково и от неловкости смущаюсь. — Отчислили. Молод, говорят, мой год еще не призывается.
В голосе матери улавливаю скрытое огорчение:
— Я думала, в отпуск. Считала, послужишь малость, потом в военную школу пошлют, красным командиром станешь. Как Настин сын…
Прямо удивительно, как быстро завоевала уважение Красная Армия!
…Внешне наш Дворец ничем не изменился. Те же убогие избы с прогнившими крышами, те же разбитые дороги, лучины, твердые, как камень, и черные, как земля, коржи из отрубей, лыковые лапти.
А люди изменились! Буквально на каждом шагу чувствовалось, что живут они по-новому, дышат свободнее, ходят смелее, смотрят на мир прямо, открыто, уверенно. И все дело в том, что это уже не батраки, не рабы помещика. Хозяйство Жилинского перешло в руки народа.
Сестра рассказала мне о знакомых.
— А Любаша как живет? — спрашиваю.
— У Любаши мальчик. Весь в отца — такие же нос, губы, густые брови. Хороший малыш… Тогда тетя Анисья забрала Любашу из Бобруйска. «Пусть, — говорила, — рожает дома». А теперь Любаша жалеет, что согласилась. Не может Анисья простить ей убийство Петра. Все время укоряет. И ребенка не любит. Прямо на людях говорит: «Комиссаренок Любкин спать мне не дает, так и хочется задушить».
Только подумал о том, как бы поговорить с Любашей, она сама заходит с ребенком. Я даже растерялся немного.
Любаша шутит:
— Как живем, товарищ командарм?
— Да как видишь: жив, здоров. — Стараясь скрыть волнение, неудачно шучу: —Проходи, садись, гостьей будешь.
Мальчик в самом деле поразительно похож на Юрия. Беру его ручонку:
— Какая малюсенькая!