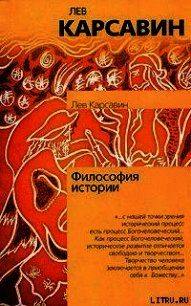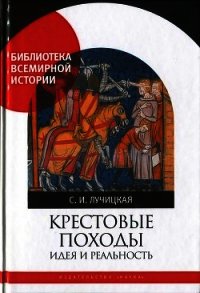Идея истории. Автобиография - Коллингвуд Роберт Джордж (читать книгу онлайн бесплатно полностью без регистрации txt) 📗
С этой точки зрения, я мог бы сказать, что всякий, кто требует правил, для того чтобы найти в них инструкцию, как действовать, цепляется за низкосортную мораль обычаев и предписаний. В любой ситуации он стремится видеть только те элементы, с которыми он уже знает, как обращаться, и закрывает глаза на все, что могло бы убедить его в непригодности его готовых правил.
Правила поведения лишают действие его высокого потенциала, потому что они приводят к известной слепоте по отношению к реальной ситуации. Если мы хотим придать действию этот высокий потенциал, то человек действия должен широко раскрыть глаза и увидеть в более ясном свете ту ситуацию, в которой он должен действовать. Если задача истории — говорить людям о прошлом, а само это прошлое понимается как мертвое прошлое, то история очень мало может помочь человеку в его деятельности. Но если ее задача — говорить людям о настоящем постольку, поскольку прошлое, ее очевидный предмет, скрыто в настоящем и представляет собой его часть, не сразу заметную для нетренированного глаза, тогда история находится в теснейшей связи с практической жизнью. История ножниц и клея с ее заимствованием от авторитетов готовой информации о мертвом прошлом, очевидно, не сможет научить людей управлять человеческими ситуациями, как естественные науки научили их управлять силами природы. Не удастся этого сделать и какой-нибудь дистиллированной вытяжке из истории ножниц и клея типа предложенной Огюстом Контом социологии. Но мне кажется, что есть некоторые шансы, что новый тип истории сумеет это осуществить.
X. История как самопознание духа
Эти шансы стали казаться мне реальными, по мере того как моя концепция истории сделала еще один шаг вперед. Этот шаг был сделан или, скорее, зарегистрирован в 1928 г. во время моих каникул в Ле Мартуре, в небольшом деревенском домике близ Дье. Я сидел там под платанами на террасе и записывал, по возможности максимально кратко, уроки, вынесенные мною из девяти последних лет исторических исследований и из моих раздумий над ними. Трудно себе представить, что к такой очевидной мысли я шел так медленно, но рукописи свидетельствуют об этом совершенно недвусмысленно. И я знаю, что всегда думал медленно и с трудом. Мысль у меня на стадиях созревания не поддавалась никаким усилиям ее ускорить, не прояснялась в спорах, этих самых опасных врагах незрелых мыслей. Она росла в глубине, проходила долгий и тяжелый период переваривания и только после своего рождения могла быть вылизана ее родителем и доведена до приемлемой для чужого глаза формы.
В моих рукописях того времени впервые проведено различие между историей в собственном смысле слова и псевдоисторией. Под последней я понимал повествования геологии, палеонтологии, астрономии и других естественных наук, которые в конце восемнадцатого и в девятнадцатом веке приобрели по крайней мере некоторое подобие историчности. Размышляя над своим археологическим опытом, я нашел, что в этих науках речь действительно идет всего лишь о подобии. Археологи часто обращали внимание на сходство их стратиграфических методов с методами геологии. Сходство, безусловно, налицо, но было и различие.
Если археолог находит слой земли, камней и цемента, в который вкраплены керамические изделия и монеты, после чего идет некультурный слой, а за ним снова слой с керамикой и монетами, то вполне понятно, что оба набора керамических изделий и монет он использует точно так же, как геолог использует свои окаменелости: он показывает, что два слоя принадлежат к различным периодам, и датирует их, сопоставляя со слоями, выявленными в других местах и содержащими реликты того же самого типа.
Эта аналогия напрашивается сама собой, но она неверна. Для археолога все эти вещи — не камни, глина и металл, а строительный материал, керамика и монеты, это остатки здания, домашней утвари, средства обмена. Все они принадлежат ушедшему времени, которое они раскрывают перед ним. Он сможет использовать их как исторические свидетельства только тогда, когда поймет назначение каждой вещи. В противном случае для него, как для археолога, данные объекты бесполезны. Он мог бы и выбросить их, если бы не надеялся, что другой археолог, более ученый и более изобретательный, сумеет когда-нибудь решить эту загадку. Он ищет цель и смысл не только в мелочах, вроде булавок или пуговиц, но и во всем здании, во всем поселении.
До девятнадцатого века естествоиспытатель мог бы ответить на это, что и он мыслит точно таким же образом. Разве не было решение любой задачи в естественных науках каким-то вкладом в расшифровку целей того всемогущего существа, которое одни называли природой, другие — богом? Ученый девятнадцатого столетия, однако, совершенно твердо бы заявил, что здесь нет никакого сходства, и с точки зрения факта он был бы прав. Современное естествознание и естествознание большей части прошлого столетия не включали идею цели в свои рабочие категории. Может быть, он прав и с теологической точки зрения. Мысль о том, что наше исследование природы должно исходить из предположения, что цели бога понятны нам, не вызывает у меня благоговения. И если палеонтолог мне скажет, что его никогда не беспокоил вопрос, для чего предназначены трилобиты, я был бы очень рад как за его бессмертную душу, так и за прогресс науки. Если бы археология и палеонтология руководствовались теми же самыми принципами, то трилобиты были бы столь же не нужны палеонтологу, как не нужен археологу «металлический предмет неизвестного назначения», который сейчас вызывает у него такие большие затруднения.
История и псевдоистория состоят из повествований. Но в истории они говорят нам о целенаправленной деятельности и свидетельствами служат остатки прошлого (неважно, книги или керамика — принцип здесь один и тот же), которые становятся свидетельствами лишь постольку, поскольку историк может воспринять их как выражение какой-то цели, понять, для чего они были предназначены. В псевдоистории категории цели нет места; имеются только остатки прошлого, и различие между ними обусловлено тем, что они принадлежат разным периодам.
Эту новую концепцию истории я выразил фразой: «Всякая история — история мысли». Исторически вы мыслите тогда, так понимал я эту максиму, когда говорите о чем-нибудь: «Мне ясно, что думал человек, сделавший это (написавший, использовавший, сконструировавший и т. д.)». До тех пор пока вы не можете так сказать, вы, возможно, и пытаетесь мыслить исторически, но безуспешно. И нет ничего, кроме мысли, что могло бы стать предметом исторического знания. Политическая история — история политической мысли, не «политической теории», а именно мысли, владевшей умами людей, занятых политической деятельностью — разработкой определенной политики, планированием путей ее осуществления, попытками провести ее в жизнь, преодолением враждебного отношения к ней других и т. д. Посмотрите, как историк повествует о какой-нибудь знаменитой речи. Его не интересуют какие-то чувственные элементы: тембр голоса оратора, твердость скамей, на которых сидит аудитория, глухота джентльмена в третьем ряду. Историк концентрирует свое внимание на том, что оратор хочет сказать (на мыслях, которые выражены в его словах), на том, как аудитория восприняла его (на мыслях слушателей и на том, как повлияла речь государственного деятеля на эти мысли). Военная история в свою очередь не есть описание утомительных маршей в зной и холод, дрожи и трепета боя или затяжной агонии смертельно раненных. Она — описание планов и контрпланов, размышлений о стратегии и тактике и в конечном счете описание того, что думали рядовые солдаты о войне.
При каких условиях можно познать историю мысли? Во-первых, мысль должна найти свое выражение либо в том, что мы называем языком, либо в любой другой из многочисленных форм коммуникативной деятельности. Исторические живописцы, вероятно, видят в простертой руке и указующем персте характерный жест, выражающий мысль офицера, отдающего приказ. Бегство выражает мысль, что все надежды на победу потеряны. Во-вторых, историк должен быть в состоянии продумать заново мысль, выражение которой он старается понять. Если по той или иной причине он не способен это сделать, то ему лучше оставить выбранную им проблему. Здесь очень важно подчеркнуть, что историк, изучая определенную мысль, должен продумать заново именно эту самую мысль, а не что-то, ей подобное. Если кто-нибудь — назовем его математиком — записал, что дважды два — четыре, и если кто-то другой — назовем его историком — хочет знать, что думал математик, оставивший на бумаге эту запись, то он никогда не сможет ответить на вопрос, если сам не будет в достаточной мере математиком, чтобы правильно понять, о чем думал математик, записывая мысль о том, что два, умноженные на два, равны четырем. Когда историк интерпретирует эту запись и говорит: «Этими знаками математик хотел сказать, что дважды два равно четырем», — то он одновременно думает, что: а) дважды два равно четырем; Ь) математик также думал об этом; с) он выразил данную мысль, оставив эти знаки на бумаге. Я не собираюсь стать легкой добычей читателя, который в ответ на мое рассуждение возразит: «Ну да, Вы облегчаете свою задачу, взяв пример действительно из истории мысли; но Вы не смогли бы объяснить таким же образом историю сражения или политической кампании». Я смогу, читатель, и ты сможешь, если постараешься.