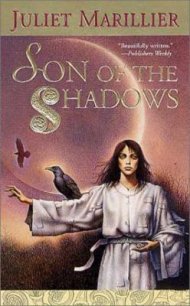Дягилев. С Дягилевым - Лифарь Сергей Михайлович (серии книг читать онлайн бесплатно полностью TXT, FB2) 📗
Я готов был окончательно упасть духом. Целыми днями я курил. Скручивал цигарки из раздобытого табака и курил, курил до одурения. Весь день я шатался по улицам Киева в сопровождении случайного товарища.
– Не пойти ли нам, – предложил он однажды, – в балетную студию Брониславы Нижинской – начальницы балетной труппы Киевской оперы? Там, кажется, прелестные девочки. И ты увидишь, как танцует моя сестра.
Поскольку ничего лучшего я предложить не мог, я согласился.
Это было потрясением. Передо мной под музыку Шопена и Шумана танцевали ученики Нижинской, одетые в балетную форму с красной звездой. Я опускаю все детали, только бы сохранить этот образ, который и на склоне лет все еще светится во мне: на исходе сломанного мира, где были только грохот и ярость, я открывал порядок и гармонию, настоящую дисциплину, которых жаждали мой ум и сердце.
Раз, два, три, четыре… мое сердце бешено стучало, но я уже знал, что только здесь для меня была надежда обрести душевный покой. И любовь. Потому что в этом порядке заключались порыв, ритм, слияние тела и духа, – значит, любовь. Все прочие образы, все прочие страсти испарились. Когда я возвращался, мысли толклись в моей голове, но одно было мне ясно: я хочу поступить в студию Нижинской, сестры великого Нижинского. Назавтра она сухо и лаконично отказала мне в праве поступить в ее студию танца. Для меня это было страшным ударом. Мне посоветовали обратиться за поддержкой к дирижеру и художественному руководителю городской оперы Штейману, пользовавшемуся благосклонностью советских властей, а потому очень влиятельному.
– Будьте спокойны, товарищ Лифарь, – сказал мне Штейман. – Даже если она не примет вас в студию, вы еще лучше будете работать здесь. Ведь мадам Нижинская руководит и балетом моей оперы.
Кого только не было в этой государственной студии! Молодые рабочие и деревенские девушки, поступившие туда неизвестно зачем… «Мадемуазели» с Крещатика… Изголодавшиеся интеллектуалы, приманенные надеждой, – смутной, как блуждающий огонек. Ничего подобного этой мешанине не было ни в каком другом месте.
После экзамена Нижинская написала на экзаменационном листке против моей фамилии: «Горбатый»! Безжалостное словечко плясало перед моими глазами еще долго после того, как я раздобыл медицинское свидетельство, удостоверявшее, что я держался совершенно прямо. Это было установлено в моем полку, направившем меня на художественную и университетскую учебу. Покинув университет, заполненный безграмотными, я выбрал карьеру артиста, где, по крайней мере, безграмотным был я сам. «Горбатый»! Или контрреволюционер? Для этого нужна была зависть моих товарищей по классу, тех, кто составлял «маленькое ядро», пользовавшееся авторитетом, хотя они старательно держались в стороне от всякой борьбы. Я не стремился проникнуть в их круг. Тем не менее я работал со страстью и упорством. Мадам Нижинская словно умышленно игнорировала меня.
Нижинскую я боялся, но и уважал, даже благоговел перед ней, когда понял, что она владеет сокровищем, которым я стремился овладеть во что бы то ни стало. Я это понял еще лучше через несколько месяцев, когда среди учеников распространились слухи, передаваемые шепотом. Нижинская готовилась уехать со всей семьей, чтобы уйти от советского ярма и устроиться где-нибудь вдали от России, в свободном мире. Она уехала, предоставив нас самим себе. Не угрожало ли это вновь моему намерению стать танцовщиком? Но я от него не отрекся. И то, что я не отрекся, скрепило навсегда мой союз с танцем.
В истории танца Бронислава Нижинская – первая женщина, которую можно назвать хореографом-творцом, поскольку Айседора Дункан соприкоснулась с эстетическими принципами танца, но не с композицией. Как и ее брат Нижинский, для которого она всегда была, как и Дягилев, духовным наставником, «руководством» к действию и разумом, Бронислава принадлежала императорской школе танца. В 1921-м она покидает Россию и с 1921-го по 1924-й определяет собой хореографическое развитие Русского балета.
В 1923-м – великое откровение «Свадебки» Стравинского. В следующем году – балет «Лани» Пуленка с его адажиетто. Потом, в 1925-м, – вне Русского балета – ее «Этюды» на музыку Баха, «Вариации» Бетховена, «Концерт» Шопена. Среди этих открытий Бронислава развивает свою способность воздействовать на индивидуальности – такие, как Мясин и Баланчин. Что касается меня, то именно от Брониславы Нижинской, а не от Дягилева, не от Фокина, Мясина или Баланчина я получил «родовую отметину», лежащую в основании моих профессиональных верований.
Именно Бронислава Нижинская – первая – соединила в своем творческом методе форму с эмоцией. Жест стал у нее знаком, символом. Танец преодолел таким образом свою отвлеченность; возникло совсем другое сочетание движений, чем в традиционной школьной технике. Это совершенно новое искусство, вызывающее отклик в душе, погружающее тело в метафизическое состояние, – такова основа всей моей эстетики. Именно Бронислава – первая – дала мне напиться из священного источника Красоты.
В 1921-м в Киеве начался нэп. Оживилась торговля, вновь открылись двери кафе. Это было царство мелкой спекуляции. Киев, казалось, ожил, однако эта искусственная реанимация лишь сделала его похожим на подгримированный труп. Я стремился бежать от этого быта и найти в танце «обитель дальную трудов и чистых нег».
Я работал сам как одержимый. Впрочем, меня поддерживали Нюся Воробьева, первая ученица Нижинской, и великий комик Давыдов. Пятнадцать месяцев я прожил в страхе, предавшись жестокому аскетизму, работая без передышки. Один перед зеркалом я состязался со своим двойником, поочередно то ненавидя его, то восхищаясь им. Он был учителем, а я всегда учеником. Еще до того, как я встретился с Кокто, а потом стал его другом, я освоил уже тему зеркала, дорогую ему, тему художника и его двойника.
Я все же замечал, что делаю успехи. Прежде всего в области техники, без которой, я уже знал это, танец не достоин называться таковым. Но было и нечто более мистическое. Ужас от царившей вокруг меня разнузданности вновь бросил меня в объятия мечты. Я грезил об искусстве, предчувствуемом и любимом. Уже в ту пору я нашел форму искусства, которая будет моей, и предавался ей со всей силой моей души. Ко мне приходили мои друзья-книги и протягивали руку, приглашая искать путь в заколдованный круг.
Я погружался также в историю танца. Вновь сочинял ее со страстью – от поучительных и священных истоков, связанных с первыми лирическими движениями человека, до Русского балета Сергея Дягилева (эхо его европейских триумфов дошло даже до нас), до Нижинского, Павловой, Карсавиной – кумиров Европы. Я полагал, что был первым, кто узнал все это, кто понял танец как искусство в высшей мере человеческое, ощутил его связь с бесконечным и божественным. Эта мысль удвоила мою решимость. Только расставшись с иллюзией, с заблуждением, я пришел к своей правде!
Мое одиночество становилось силой, сконцентрированной внутри меня, моя неудовлетворенная чувственность преображалась в творческую энергию. На протяжении всей моей жизни некоторые «сильные» образы должны были мне сопутствовать. В годы моей одинокой юности я все их преодолел. Это должно было послужить мне уроком.
В один прекрасный день студия закипела. Мадам Нижинская только что прислала телеграмму, которую я сохранил: «С. П. Дягилев просит для укомплектования своей труппы пять лучших учеников мадам Нижинской». Они были указаны. Пятый не явился. Мой энтузиазм подсказал решение: я поеду вместе с другими.
Я не буду описывать испытанные мной муки, страхи, опасности, когда я пересекал границу под пулями, цепляясь за вагон. Руки так свело холодом, что это даже помогло мне не сорваться. Не буду описывать и охватившую сердце радость, когда я оказался на «другой стороне». Не буду повторять то, о чем рассказал мой друг Жозеф Кессель в книге «Бешенство» («La rage au ventre», об этом рассказал и я сам в моей книге «О времени, когда я голодал»). Не буду описывать подробности моего бегства. Они не так уж важны, потому что у меня была цель.