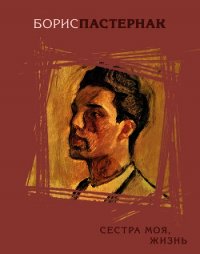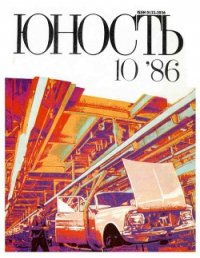Гамаюн. Жизнь Александра Блока. - Орлов Владимир Николаевич (читать книги полностью txt) 📗
Еще года за полтора до того Северянин прислал Блоку свою брошюру «Ручьи в лилиях» с развязной надписью: «Поэт! Я слышал Вас на похоронах Врубеля. Незабвенна фраза Ваша о гении, понимающем слова ветра. Пришлите мне Ваши книги: я должен познать их». Блок послал «Ночные часы», написав на книге (если верить Северянину): «Поэту с открытой душой».
Именно открытость этой примитивной, «дикарской» души и привлекла Блока, и ради одной обнаженно драматической строчки «Она кусает платок, бледнея» он готов был простить Северянину и «демимонденку», и «лесофею». Он нашел у Северянина «настоящий, свежий детский талант», но тут же оговорился, что у него нет темы и потому нельзя сказать, куда пойдет он.
Впрочем, подход к этому детскому таланту был у Блока своеобразный: «Я теперь понял Северянина. Это – капитан Лебядкин. Я думаю даже написать статью „Игорь Северянин и капитан Лебядкин“». Насмешки тут не было: лебядкинские вирши нравились Блоку своей полнейшей непосредственностью. В дальнейшем, когда со всей очевидностью выяснилось, в какую сторону пошел Северянин, Блок уже видел в нем только пример всеобщего «одичания» и торжества мещанской псевдокультуры.
Той же весной 1913 года, когда прогремев Северянин, шумно проталкивались в литературу футуристы другой фракции. Только что вышел второй «Садок судей», в Троицком театре Маяковский громил символистов, в том числе и Блока. В эти дни Блок записывает в дневнике: «Подозреваю, что значителен Хлебников. Е.Гуро достойна внимания. У Бурлюка есть кулак. Это – более земное и живое, чем акмеизм». В тягостном косноязычии Хлебникова Блок, как передал один из его собеседников, почувствовал «новую силу и правду вечно рождающегося слова». Потом он вспоминал, как ценители поэзии откликнулись на голос Маяковского – «автора нескольких грубых и сильных стихотворений», – откликнулись независимо от желтой кофты, ругани и футуризма.
Второго или четвертого декабря 1913 года Блок смотрел в театре «Луна-Парк» трагедию «Владимир Маяковский», поставленную иждивением Левкия Жевержеева, бескорыстного покровителя футуристов, в миру – фабриканта церковной утвари и священнических облачений.
(В 1918 году авторские экземпляры художественного издания поэмы «Двенадцать», с рисунками Юрия Анненкова, были переплетены в остатки парчи, из которой у Жевержеева шили ризы.)
Шесть лет прошло, как здесь, у Комиссаржевской, показывали «Балаганчик». Всего шесть лет, а сколько воды утекло!
Столь памятный Блоку зал был битком набит и по ходу действия вскипал насмешками, негодованием, свистом. Блок неотрывно смотрел на сцену, где большой незагримированный Маяковский, в обычном костюме, непринужденно играл самого себя – расхаживал, танцевал, наотмашь бросал в публику:
Через несколько дней Блоку довелось выступать на литературном вечере. Футуристические спектакли были сенсацией. Участники вечера ругали футуристов наповал и с интересом ждали, что скажет Блок. Он сказал: «Есть из них один замечательный: Маяковский». Кто-то спросил: что же в нем замечательного? Блок ответил, как всегда коротко – одним словом: «Демократизм»
Несколько позже (очевидно, в 1915 году) состоялось и личное знакомство Блока с Маяковским. И чем дальше, тем внимательней присматривался он к шумному молодому поэту. В начале 1916 года он настоятельно советовал Мейерхольду привлечь Маяковского к участию в журнале «Любовь к трем апельсинам».
Со слов Маяковского известно, что на подаренной ему книге Блок сделал такую надпись: «Владимиру Маяковскому, о котором в последнее время я так много думаю». (Книга не сохранилась.)
Следы этих раздумий есть в дневнике Блока. Конечно, для него была неприемлема легкость обращения с великим наследием прошлого, он не видел смысла в том, чтобы «сбрасывать Пушкина с парохода современности». Но он учуял главное – полную раскованность этой новой поэзии, заговорившей о самом насущном и неслыханно вольно, без какой-либо оглядки.
Сам он так говорить не умел, но даже эпатаж футуристов он старался понять. Под впечатлением их задорных выступлений он задается вопросом: почему учишься любить Пушкина «по-новому»? Может быть, как раз из-за футуристов: «Они его бранят по-новому, а он становится ближе по-новому… Брань во имя нового совсем не то, что брань во имя старого, хотя бы новое было неизвестным (да ведь оно всегда таково), а старое – великим и известным. Уже потому, что бранить во имя нового – труднее и ответственнее».
Сам он не боялся ни труда, ни ответственности, относился к искусству с все большей свободой и бесстрашием, искал и находил его где угодно, только не на Мариинской сцене, не в «Цехе поэтов» и не в «Бродячей собаке».
Он писал Мейерхольду: «Люблю кровь, а не клюквенный сок».
За подлинность переживания, за открытую страсть, за настоящую работу художника он любил цирк, балаган, пеструю программу Народного дома, все то «низовое искусство», которое так презирали и третировали эстеты. Побывав на спектакле мейерхольдовской студии, он вспомнил знаменитого клоуна: «Жакомино – гений рядом с ними. Один его жест стоит всей студии».
Актер Мгебров рассказал, как Блок уговаривал его стать клоуном: «Он был глубоко убежден, что с приходом в цирк художника-артиста можно превратить последний в самую замечательную арену возвышенных страстей, мыслей и чувств, идущих от свободного, широкого человеческого сердца». Он и сам собирался сочинять монологи для клоунов.
Как-то, скитаясь по городу, забрел он в убогий театр миниатюр. Охрипший актер голосил с эстрады: «Твои движенья гибкие, твои кошачьи ласки, то гневом, то улыбкою сверкающие глазки…» Блок готовил для печати стихи Аполлона Григорьева и не преминул вставить в примечания такой пассаж: «Актер, певший эти слова, конечно, не подозревал, чьи они. Буйный Григорьев, всю жизнь друживший с цыганством, так и живет до сей поры на улице, в устах бедного работника маленькой сцены. Не лучше ли для поэта такая память, чем том критических статей и мраморный памятник?»
Да, меньше всего думал он о мраморном памятнике… Пройдут годы – и автор «грубых и сильных стихотворений» тоже скажет: «Мне наплевать на бронзы многопудье, мне наплевать на мраморную слизь…»
В поэзии, в самом деле, все взаимосвязано и ничего случайного не бывает (хотя, конечно, может произойти неожиданное).
В разговоре с Маяковским Блок будто бы заметил: «Мы были очень талантливы, но мы не гении». (Потом, достигнув высшей точки на своем пути, он запишет: «Сегодня я – гений»). Но предчувствием гения он жил.
В том же 1913 году, поверх всего, что шумело, красовалось, скандалило вокруг него, он думал о будущем русской литературы. В.Пяст запомнил такие его слова: «Вот придет некто с голосом живым. Некто вроде Горького, а может быть, он сам. Заговорит по-настоящему, во всю мочь легких своей богатырской груди, заговорит от лица народа, – и одним дыханием сметет всех вас, как кучу бумажных корабликов, все ваши мыслишки и слова, – как ворох карточных домиков».