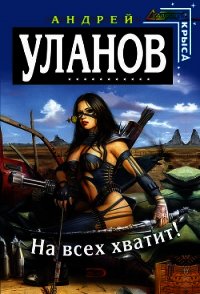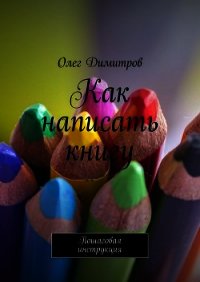Письма сыну - Леонов Евгений Павлович (смотреть онлайн бесплатно книга TXT) 📗
Теперь о Сарре. Думаю, что критика определит ее как выдающуюся роль Чуриковой. Все сильные стороны ее актерской индивидуальности – сосредоточенность на себе, на собственной внутренней жизни (а этой энергии так много, потому что она ее не выплескивает, не разменивает на других, на обстоятельства) – сказались здесь особенно. Как бы это пояснить? Допустим, в любви большинство людей, влюбленных, обретают дивную способность видеть и чувствовать другого человека, любимого. Ее в любви захватывает ее собственное чувство. Она точно зачарована собственной душой, она слышит самое себя, погружается в свое страдание, то есть в любви она открывает самое себя, а не другого.
Вот эта органичная погруженность в себя оказалась предельно важна в нашей центральной сцене – объяснения Иванова с Саррой. Дело в том, что по жестокости сцена доведена до абсурда и сделать ее психологически достоверной могло только это обстоятельство. Погруженность в себя решительно не дает возможности Сарре услышать Иванова. Первое, что должна подумать умная любящая женщина, что он сошел с ума, но тогда Сарра бросилась бы спасать Иванова. Но! Сарра всегда, и тут, видит только себя, чувствует только свою боль, и до Иванова ей дела нет. Как-то Чехов говорил, что мы, русские, ищем страдания, чтобы избежать скуки. Чурикова такую именно чеховскую героиню играет. Это, мне думается, придает всей сцене при абсурдистском характере психологическую конкретность и глубину – получается впрямь приступ безумия. Впрочем, это я так чувствую.
Обнимаю.
Твой Евг.
Снова и снова встает перед тобой вопрос: режиссер или актер, кто определяет успех в конечном счете. «Режиссер!» – сказал бы я тебе, но тут же вспоминаю, сколько было в моей практике встреч с режиссером по должности, но не по художественному масштабу. Профессионал или художник – это так же существенно в режиссуре, как и в актерстве.
Яншин, когда кто-то плохо играл, говорил: «Это я виноват, может хорошо сыграть, что-то недоделали мы». А сейчас часто услышишь, что режиссер все свое дело сделал, но актеры, мол, оказались слабыми, их пришлось закрывать. Это и в театре, и в кино. Но в чем же дело? Смотришь иной спектакль: все сделано красиво, современно, все по высокому счету, и даже в зале пахнет чем-то, и это даже впечатляет. Но почему в моем сердце остались Москвин, Тарханов?..
Актер драматического театра проверяется умершем создать характер, окрасить его своим сердцем, а не внешней моторностью. Этому надо учиться, а сейчас эти понятия стали улетучиваться. Зачем же я тогда много лет тому назад ходил по улице Горького и Васильевской взад-вперед и думал о Лариосике, и мучился оттого, что Яншин такое показывал, что я не мог сделать, и по многу раз проверял в уме, что я не так делал. Я ходил не замечая людей, натыкаясь на столбы. Может, это искусство ушло в прошлое? Нет, я думаю, искусство, связанное с сердцем, с правдой, с глубиной, – вечно. Мне интересней смотреть те спектакли, где есть настоящая литература и та истина, ради которой мы живем. Этот болевой момент может быть окрашен музыкой и другими современными средствами. Я видел это в фильме «Вестсайдская история» и плакал на американском мюзикле «Иисус Христос – суперстар», в фильме о балете, который видел в Англии, когда семнадцать молодых людей выступают перед режиссером, а нужны только двое, и это трогает до слез.
Один молодой режиссер сказал, что ему больше нравятся заграничные актеры, чем русские. А меня и среди зарубежных актеров поражают те, кто цепляет за сердце. Меня потряс Николсон в фильме «Полет над гнездом кукушки». Меня поражал Жан Габен в фильме «У стен Малапаги» и в других картинах, он меня хватал за сердце. Может, это было давно и я был еще неопытным зрителем, хотя таким и остался, но меня брали в плен именно такие актеры. Я и сам так стараюсь играть. Помню, как шли «Ванюшины» в Югославии: приходили актеры и говорили, что это интересно, но не нужно так тратиться.
Я ушел из Театра имени Маяковского – рухнул спектакль «Дети Ванюшина», не потому, что я талант, он был так выстроен, выстроен режиссером на актера. Я ушел из Театра имени Станиславского – рухнула «Антигона», потому что роль была выстроена, все было выстроено, а по-другому трудно. Наверное, надо и роль так же выстрадать, говорить со сцены о том, что мучает тебя.
Однажды спорил с режиссером, который сказал: «Я не воспитатель, я режиссер». Но ведь режиссер должен быть воспитателем. Я не о дисциплине сейчас говорю, а про актерское дело – он должен воспитать в актере желание заниматься человеческим духом, он должен заниматься воспитанием личности. А то может получиться так, что ограничиваются данными, которые есть: достаточно, мол, и этого. На какой срок? на жизнь? на мюзиклы? на роли?
Мне все больше кажется, что наши современные режиссеры хотят прежде всего выстроить спектакль, сотворить, выдумать, но не выстрадать его, не родить, оторвав пуповину, и, конечно, вместе с актерами. А если ты вместе, то уже вроде бы не начальник, а педагог, соучастник.
Многим молодым режиссерам почему-то хочется блеска телевизионной «театральной гостиной», чтобы цветы, американцы, чтобы публика разбивала двери. Яншин был толстый и немолодой, и он этими делами не занимался, от него у меня осталось впечатление, что он не начальник, а соучастник моей жизни, моего труда, моих поисков, наших, вернее, поисков. В нашей с ним жизни всяко было – и он меня, конечно, не всегда принимал, и это в результате и прекрасно – я все время пытался что-то доказать. Как-то Гончаров сказал, что у Яншина я ухватил что-то современное.
Вот Данелия берет каждый раз одних и тех же актеров и каждый раз раскрывает их по-новому. Иногда начал повторяться актер, он сам, может быть, этого и не понимает, особенно в кино: снимают, без простоя и т. д. И тут Данелия вновь сумел в нем что-то отыскать, растормошить его сердце. Недавно у меня спросили о «Нахлебнике» – и мелькнула мысль: почему бы мне «Нахлебника» не сыграть, это было бы прекрасно – учитель мой играл, и я сыграю; но нужен тот, кто увидел бы это, кто заразил бы меня идеей и вложил бы в меня мысль, что это возможно. Но никто об этом не думает, а я сам не знаю, могу я это сыграть или нет, – это проверяется только работой, репетицией.
Мне рассказывал Петр Петрович Глебов, с которым я проработал много лет в Театре имени Станиславского, что в «Тихом Доне» его пробовали на эпизодическую роль белого офицера, но его увидел Сергей Аполлинариевич Герасимов, увидел, как говорится, режиссерским глазом, что у Глебова есть удивительная простота и трагедийный накал, – и судьба актерская состоялась.
Режиссер, если его не зря режиссером называют, видит больше и лучше, чем актер сам себя. Работа с режиссером, которому доверяешь, какой бы трудной она ни была, – это и есть счастье.
Я ценю режиссуру не за сочинительство в области формы, но за исследование человеческой сути характера, взаимодействия его с жизнью. Это сложнее, но только это приводит к истинному художественному результату и режиссера, и актера.
Евг. Леонов
Сегодня, Андрюша, я вспомнил, как бы в Певеке на берегу океана. Зима, понимаешь, снег, и белое уходило в такую даль, что трудно и представить. Поэтому я не стал себе представлять, а спросил: «А там что – полюс?» Но ощущение необыкновенное. Напоминало мне впечатление от первой поездки по степи, когда ехал в станицу Раздорскую и видел степи, курганы до горизонта. Но степь я воспринимал через Григория Мелехова, через Аксинью, через Шолохова. А когда попал в Певек, на Ледовитый океан, такое чувство, вроде я последний, вроде я Амундсен. Потом на карту посмотрел – Америка рядом. А когда летел в Америку, то даже не понял – была под нами вода или нет.
Некоторые люди живут ради достижения цели, а что делать, когда наступит день и цель достигнута? Можешь себе представить, что цель будет достигнута? И тогда что? Может быть, правы те, кто считает, что цель – это жизнь, а всего дороже жизнь, и все нравственно, что служит жизни.