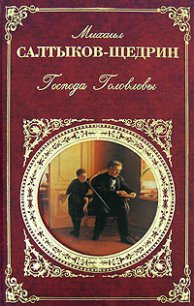Салтыков-Щедрин - Тюнькин Константин Иванович (читать книги онлайн .TXT) 📗
И в это же время он задумывает новое произведение — цикл «Мелочи жизни», и около 20 августа шлет В. М. Соболевскому для «Русских ведомостей» первую его главку!
Так или иначе, но он может писать, болезнь если и не ушла, то отступила перед мужеством и стойкостью! Действительно, как бы внезапно разбудивший от кошмарного болезненного сна толчок, неудержимый творческий импульс, яркое душевное горение подавляют, пересиливают болезнь. Но возбужденный и горящий мозг, проясневший разум отнюдь не дают успокоения, а лишь «подбавляют» страданий. И притаившаяся болезнь только ждет иссякновения творческих сил, чтобы наброситься на истощенный организм с новой силой, погрузить его в мглу и мрак. Впрочем, Салтыков, жаждавший найти покой в удалении от терзавших болей, стремившийся уединиться, даже уйти куда-нибудь «на хлеб и воду», конечно, знал, что покой означал бы для него и конец творчества. «В том вся болезнь моя, что требует спокойное течение жизни, а писать спокойно нельзя. На беду мою я начал».
23 августа он уже посылает В. М. Соболевскому второй «фельетон» «Мелочей жизни» (впоследствии — вторая главка «Введения») и при этом просит прощения, что «рассыпался таким градом статей. Я пользуюсь временным просветом, но, вероятно, скоро опять погружусь в мглу безмолвия».
Прошел год, как Салтыков не появлялся в печати и публикацию восьмого «пестрого письма» он называет своим «новым вступлением на литературное поприще». Но поистине новым вступлением на ниву литературы явился замечательный художественно-публицистический цикл «Мелочи жизни».
12 октября 1886 года, приступив к работе над «Мелочами жизни», Салтыков писал В. М. Соболевскому: «Мною овладело теперь непреодолимое желание работать». Под знаком этого «непреодолимого желания», этой безудержной жажды творчества написан в течение зимы 1886-го и весны 1887 года весь цикл.
Сначала цикл «Мелочи жизни» представлялся Салтыкову как серия «фельетонов», имеющих современный интерес, и потому предназначался им для публикации в газете В. М. Соболевского «Русские ведомости». В таком современном, «злободневном» духе и написаны первые три «фельетона» (соответственно — три главки «Введения» окончательной композиции цикла). Но это не просто газетные фельетоны, которые предполагают беглый просмотр и забываются тут же по прочтении. Уже автобиографическое вступление первого «фельетона» о том, как его «перевезли» на дачу в Финляндию, давало начатому циклу особый субъективно-лирический колорит. Это были действительно и гневные отклики на политическую «злобу дня» и глубоко откровенная личная беседа с читателем о писательской судьбе.
Больной Салтыков размышляет о движении времени, о содержании или бессодержательности каждых пяти минут человеческой жизни: «Сидишь и смотришь, как одна минута ползет за другой. Вот наконец доползла: начинаются следующие пять минут... ужасно! Нечто подобное должен испытать сидящий в одиночном заключении...» Он сравнивает свое положение больного и одинокого писателя с положением такого заключенного. Но почему, откуда пришли эта оброшенность, это одиночество? «Что привело меня к этому положению? — на этот вопрос не обинуясь и уверенно отвечаю: писательство. Ах, это писательское ремесло! Это не только мука, но целый душевный ад. Капля по капле сочится писательская кровь, прежде нежели попадет под печатный станок. Чего со мною ни делали! И вырезывали, и урезывали, и перетолковывали, и целиком запрещали, и всенародно объявляли, что я — вредный, вредный, вредный».
Не впервые появляется на страницах салтыковских произведений эта подлинная властительница современной минуты — Мелочь: «в основе современной жизни лежит исключительно мелочь», «сцепление обидных и деморализующих мелочей» управляет политической жизнью Европы, фабрикует бессмысленные испуги, калечит жизнь «простеца», держит его в напряжении относительно загадочности будущего.
С ужасом и отвращением читаешь газеты, заполненные мелочами, которые остаются какими-то неразгаданными загадками.
«Немецкие фабриканты совсем завладели Лодзем», «немецкие офицеры живут в Смоленске» и т. д. и т. п. Что это такое? Не что иное как мелочи постыдные, отвратительные. Но что они значат?
А вот еще:
«Леса наши гибнут, реки мелеют...»
«Крестьяне год от году беднеют, помещики также; а рядом с этим всеобщим обеднением вырастают миллионы, сосредоточенные в немногих руках».
«Это уж мелочи горькие, по покуда никто их еще не пугается; а когда наступит очередь для испуга, — может быть, дело будет уже непоправимо».
Неужели же, вместо того, чтобы прислушиваться к деморализующим мелочам европейской верхушечной политической жизни (этого «концерта» держав), не следует покончить с мелочами, терзающими и горькими? Где же действительный центр тяжести жизни? Ведь подлинная жизнь, жизнь народная идет независимо от «концертов».
Кто же сумеет разобраться в этих мелочах, понять их, увидеть их смысл и указать дорогу? Только человек разума, только интеллигенция. «Не будь интеллигенции, мы не имели бы ни понятия о чести, ни веры в убеждения, ни даже представления о человеческом образе. Остались бы «чумазые» с их исконным стремлением расщипать общественный карман до последней нитки. Идет чумазый, идет! Я не раз говорил это и теперь повторяю: идет, и даже уже пришел! Идет с фальшивою мерою, с фальшивым аршином и с неутолимою алчностью глотать, глотать, глотать... Интеллигенция наша ничего не противопоставит ему, ибо она ниоткуда не защищена и гибнет беспомощно, как былие в поле...»
«Ах, эти мелочи! Как чесоточный зудень, впиваются они в организм человека, и точат, и жгут его. Сколько всевозможных «союзов» опутало человека со всех сторон; сколько каждый индивидуум ухитряется придумать лично для себя всяких стеснений! И всему этому, и пришедшему извне, и придуманному ради удовлетворения личной мнительности, он обязывается послужить, то есть отдать всю свою жизнь. Нет места для работы здоровой мысли, нет свободной минуты для плодотворного труда! Мелочи, мелочи, мелочи — заполонили всю жизнь».
Этот охватывающий массу страх завтрашнего дня; эта нивелирующая рука циркуляра, тяготеющего над школой, которая способна воспитать юношей и юниц сонливых и бессильных; это непонимание друг друга, это добровольное рабство; «умственный, и материальный уровень страны несомненно понижается; исчезает предусмотрительность; разрывается связь между людьми...».
Болезненно вспоминалась крепостная деревня, вспомнилось и знаменитое «хлудовское дело», которому отдал когда-то столько бесплодных усилий и растерзанных нервов. А теперь? Всевластие чумазого, вторгшегося в самое сердце деревни, община, сковавшая мужика по рукам и ногам, жестокость в крестьянской семье... Да и как не быть этой жестокости? Салтыков по-своему перетолковывает басню Льва Толстого «Ворон и воронята»: «Помнится, читал я в одном из сборников Льва Толстого сказку о старом коршуне. Вздумалось ему переселиться из родной стороны за море — вот он и стал переносить по очереди своих коршунят на новое место. Понес одного, долетел до середины морской пучины и начал допрашивать птенца: «Будешь ли меня кормить?» Натурально, птенец испугался и запищал: «Буду». Тогда старый коршун бросил его в пучину водную и возвратился назад. Полетел он с другим коршуненком, и опять повторилась та же сцена. Опять вопрос: «Будешь ли меня кормить?» — и ответ: «Буду!» Бросил старый коршун и этого птенца в пучину и полетел за третьим. Но третий был настоящий коршун, беспощадный и жестокий. На вопрос: «Будешь ли меня на старости лет кормить?» — он отвечал прямо: «Не буду!» И старый коршун бережно донес его до нового места, воспитал и улетел прочь умирать». У Толстого ворон щадит третьего вороненка потому, что только тот сказал правду. Толстовский мудрый ворон в сказке Салтыкова стал беспощадным и жестоким коршуном, убивающим слабых, — символом жестокости современной деревенской жизни. «Куда скрыться от домашнего гвалта? на улицу? — но там тоже гвалт: сход собрался — судят, рядят, секут. Со всех сторон, купно с мироедами, обступило сельское и волостное начальство, всякий спрашивает, и перед всяким ответ надо держать... А вот и кабак! Слышите, как Ванюха Бесчастный на гармонике заливается?» Вот они, мелочи терзающие, горькие, убивающие — хиреет русская деревня...