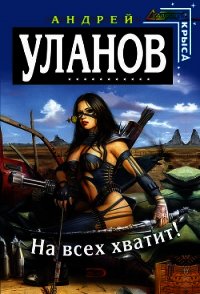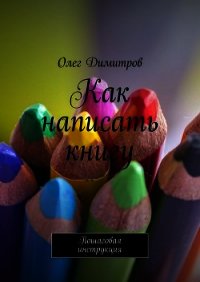Письма сыну - Леонов Евгений Павлович (смотреть онлайн бесплатно книга TXT) 📗
Буду звонить иногда.
Отец
В моей жизни были разные периоды. Я много ездил по стране и по миру и хотел всю жизнь странствовать. Но сейчас, кажется, я бы предпочел посидеть дома, и чтобы все – и ты, и Ванда – были бы на месте, около меня. Старею, да?
Вспоминаю, как один мой приятель, актер, рассказывал мне про Германию. Он там работал в армейском театре, и это было славное время его жизни. И вот он вернулся и рассказывал мне про улицы, про людей, про магазины, про парк Сан-Суси и как какой-то актер с палкой ходит в этом парке… А мне тогда предлагали поехать художественным руководителем в армейский театр. И я, засыпая, представлял, как с палкой буду гулять по Сан-Суси, поставлю все спектакли, которые ставил у нас Яншин (я их хорошо помнил). Так у меня часто бывает – кто-то рассказывает о каком-то крае, как там интересно – и я думаю: «Хорошо бы поехать». И я обязательно связываю это с тем, что со мной поедете вы – ты и Ванда. Я бы представлял себе бродячую жизнь артиста, если бы со мной была моя семья. У меня было даже такое странное желание, чтобы ты и Ванда побывали в Сан-Суси. Бывали, правда, и такие моменты: поссорился – и мне сразу хотелось уехать куда-нибудь, чтобы начать жизнь сначала, но лучше бы, думаю, и их с собой взять… Я не представлял, что могу уехать один. Например, если бы сейчас были бродячие труппы, для меня это невозможно. Вспоминаю съемки фильма «Чайковский»: я первый раз был за границей – Англия и Франция, причем во Франции почти месяц. А я уже через пятнадцать дней думал: «Скорей бы домой», меня заела такая тоска, немыслимо тянуло в Москву. Все мои командировки связаны именно с этим чувством – домой. Может, это для меня какая-то временная жизнь, или это зависит от профессии, или просто выяснилось, что я не рожден для бродячей жизни.
Скучаю.
Отец
Ты не прав, Андрей, натурализм в искусстве связан не только с жестокостью. Разве не может быть натурализма в идиллии? Вообще-то я не согласен, что есть материал искусству благоприятный и искусству неблагоприятный, есть то, что подвластно искусству и что нет. Я считаю, что все ему подвластно – и высокое, и низменное, – все, что есть в человеке и вокруг него.
Когда смотришь в кино, как люди едят, пьют, как в «Рокко и его братьях» дерутся и течет кровь, когда тебя глубоко за душу хватает, то не думаешь о натурализме. И вообще неясно, что такое натурализм. В «Первом учителе» тоже натурализм. В кино натурализм помогает втянуть тебя в какую-то правду, и если это сделано осмысленно, с сердцем, то и не воспринимается как натурализм. Но есть сила привычки, я имею в виду зрительское восприятие. Вот я посмотрел сейчас в ФРГ фильм «Жестяной барабан» – на меня картина произвела очень большое впечатление, но много сцен натуралистических (уродства фашистского сознания словами не передать и смотреть страшно). От такого фильма и умереть можно.
Там есть мальчик, который упал в детстве, когда ему было три года, и остался маленьким навсегда. Потрясающая сцена, как он, тринадцатилетний подросток, выступает с группой лилипутов в фашистской форме. Натурализм в этом фильме производит ошеломляющее впечатление. Поэтому с натурализмом не просто. Я видел последнюю картину Пазолини «Сало, или Сто двадцать дней Содома» (картина, после которой его убили) – там показано, как фашисты издеваются над мальчиками и девочками, расстреливают их, а в это время в небе жужжат советские самолеты – конец войны, крах. По мысли здорово, и, наверное, это нравится, а меня потом тошнить стало, хотя это сделано крупным режиссером, но я такого ужаса насмотрелся, что не вынес. Потом я узнал, что картина не везде шла – Папа Римский не позволил ей идти в Италии.
Натурализм, он разный – натурализм может вызывать протест и даже отвращение. Но если ты услышишь, что в кинематографе без натурализма невозможно, – и это правда.
Евг. Леонов
Продолжаю наш разговор по телефону.
Конечно, в моей жизни бывало так, что меня обижали, и, как мне кажется, напрасно, незаслуженно. А у меня такая воля, что, если человек меня обидел, я его исключу из своей жизни, я могу с ним здороваться и разговаривать, но он для меня как человек уже не существует. Все-таки добрым быть проще, чем злым, и, может быть, это одна из граней доверчивости к жизни. Доверие, доверчивость – это ведь через людей передается, значит, в общении с другими; доверие не просто к жизни, а к людям, которые с тобой рядом. Я думаю, это, конечно, не значит быть всепрощающим; быть твердым, но и уметь прощать.
Завоевать доверие тяжело, но так легче жить, когда ты отвоевал кусочек пространства для того, чтобы и творилось легче, и жилось свободней. Человек расцветает, он становится умней, он хочет показать лучшее, что есть в нем, ему рассказывать легче. Я это по себе замечал, насколько приятней работать, когда на тебя смотрит не насупленный взгляд, а добрый, – в тебе что-то раскрывается, и хочется отдать такому человеку во сто крат больше. Меня окружало в жизни много доверчивых людей. Я никогда не забуду доброе лицо, добрые глаза Виталия Доронина, с которым я снимался в фильме «Дорога». Я, наверное, как ты сейчас, чего-то не умел, но я там из себя выходил, фантазировал, а Доронин поддерживал, и действительно, иногда снимали, как я предлагал. И в «Деле Румянцева» была какая-то особая, дружеская атмосфера, когда хотелось сделать больше, чем ты умеешь. А это прекрасно, прекрасно не только на сцене, на съемочной площадке, но и в жизни. Всегда на ласку отвечают лаской, на добро отвечают добром. И было бы прекрасно, если бы в человеке будили доброе, призывали к доброму, говорили о добром. Нет, я не готовил тебя к встрече со злом, я никогда не говорил тебе, что, мол, встретятся и злые люди. Но, Андрей, бывают разные люди, бывают люди, у которых что-то прошло в жизни мимо, может, они и сами виноваты, может, что-то так у них сложилось, не надо огорчаться, если они тебе скажут что-то резкое. Не надо и на того актера, который был с тобой высокомерен, обижаться, может, он не хотел, это родилось у него такое самомнение, и ему кажется, что он такой знаменитый, он и поет, и танцует, и вроде в Европе никто так не умеет, а ему трудно пережить этот момент, но пройдет некоторое время, и опять он будет таким же, как и был, нормальным, приличным человеком. Поверь мне.
Отец
Доверчивость в жизни – это еще умение не озлобиться, хотя много вокруг таких, кто может сказать или сделать больно. Я этого не замечал, когда был на гастролях, например в Омске или Новосибирске, там люди чистые, открытые, там на улице в гости приглашают, даже смешно.
После пятидесяти лет я примирился с самим собой, я как-то перестал бороться со своими недостатками. У меня недостатков очень много: я страшно мнительный человек, а стеснительный был такой, что на радио не мог записываться. Только и думал, как все будут смотреть на меня, когда я приду. Там некогда репетировать. Сейчас я прикрываюсь званием, а раньше, когда приходил и на месте только узнавал, кого буду играть, у меня пересыхало во рту, голос становился скрипучим, язык цеплялся за нёбо. Хотя были актеры, которые делали все с ходу. Пришла однажды актриса Театра Вахтангова, очень торопилась, энергично начала играть, а ей потом говорят, что она должна играть мужчину.
Есть во мне и подозрительность: если я не встречал открытой улыбки, то уже считал, что ко мне плохо относятся, хотя сейчас знаю, что улыбка ничего не означает. Жизнь у меня какая-то быстрая получилась: война, детство, юность – голодные и одинокие, завод, потом немножко техникум, студия, и все это сутками, сутками, и как началось, так до сих пор и катится. У меня такое впечатление, что у меня выходных не было, толком и не отдыхал я. Жизнь развивала, видимо, во мне то, что было заложено моей мамой, то, что было главным – и осталась главным, – страсть работать.