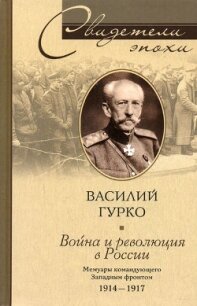Черты и силуэты прошлого - правительство и общественность в царствование Николая II глазами современ - Гурко Владимир Иосифович
Утром 9 июля, пробегая «Правительственный вестник», прочел я в нем, к великому моему удивлению, наряду с указом о роспуске Государственной думы увольнение Горемыкина и назначение Столыпина, события, которые были мне уже известны; еще указы об увольнении от должности Стишинского и Ширинского (а равно манифест, как бы разъясняющий причину роспуска Государственной думы и утверждающий, что роспуск этот отнюдь не обозначает отмены положений, установленных Манифестом 17 октября). Событие это было для меня совершенною неожиданностью. Будучи, невзирая на постоянное разномыслие по многим вопросам с Стишинским, в весьма хороших с ним личных отношениях, я тотчас отправился к нему, дабы выразить ему сочувствие по поводу столь неожиданного для меня и для него его увольнения от должности. Застал я его в помещении Главного управления землеустройством, куда он только что накануне по настоянию Лауница переехал со своей частной квартиры, причем рядом с ним стоял большой письменный стол, перевязанный веревками, концы которых были припечатаны. Было ясно, что стол этот, очевидно, заключающий различные бумаги, составлял личную собственность Стишинского и тоже только что переехал с его частной квартиры, причем с него даже не успели снять перевязывавшие его веревки. Сам Стишинский, как всегда наружно спокойный, находился, очевидно, в удрученном состоянии. Рассказал он мне тут, что узнал о своем увольнении даже не из «Правительственного вестника», а от одного из своих сотрудников по ведомству, а именно управляющего делами Главного земельного комитета А.А.Риттиха, которому он по телефону намеревался дать распоряжение относительно дня следующего заседания комитета. Риттих, которому увольнение Стишинского было уже известно, был вынужден ему сказать, что от него, Стишинского, назначение заседаний Земельного комитета уже не зависит.
Стишинский, в общем ожидавший своего увольнения, был в высшей степени оскорблен тем способом, которым оно было осуществлено. Еще накануне, после того, что Горемыкин сообщил, что он заменен Столыпиным, Стишинский заявил ему, что он немедленно подаст прошение об увольнении от должности, но Горемыкин ему это отсоветовал, говоря, что Столыпин едва ли станет изменять личный состав Совета министров.
Но в особенности зол был Стишинский на Столыпина, который, вернувшись из Петергофа, конечно, не только знал о предстоящем увольнении его и Ширинского, которое, очевидно, произошло по его настоянию, но, вероятно, даже соответствующие указы об этом имел в своем портфеле, ему ни слова не сказал об этом, предоставив заинтересованным двум лицам узнать об этом из «Правительственного вестника» или даже от третьих лиц, которые бы с ним встретились до прочтения им самим «Правительственного вестника», как это в действительности и произошло. Этой крайней неделикатности Столыпина Стишинский, как и Ширинский никогда ему не простили и тотчас превратились не только в его политических, но и личных недругов.
От Стишинского поехал я к Горемыкину. Старика я застал в весьма благодушном настроении: он, по-видимому, вовсе не сожалел об утрате власти. Естественно, что мой первый вопрос был: знал ли он уже накануне об увольнении Стишинского и Ширинского, а также когда было решено сопровождать указ о роспуске Государственной думы Высочайшим манифестом и кем он составлялся. На оба эти вопроса Горемыкин ответил, что он сам не знает, когда было решено и то и другое.
Во время моего разговора с Горемыкиным раздался звонок телефона. Из последовавшего за сим разговора Горемыкина по телефону, с кем именно, мне осталось неизвестным, я слышал только одну его половину и ничего не понял, кроме того, что Горемыкин чем-то недоволен, а за сим узнал от него, что ему было сообщено.
— Mon cher ami encore une bêtise[587], — сказал мне Горемыкин, любивший беседовать на французском языке. Оказалось, что дело шло о роспуске Государственного совета, о котором в указе о роспуске Государствен ной думы не упоминалось. — Надо было сохранить Государственный совет, — говорил Горемыкин, — так как если занадобится (любимое выражение Горемыкина) издать серьезный государственный акт, например, изменить положение о выборах в Государственную думу, то можно было совершить это при участии Государственного совета, заключающего элементы народного представительства.
Из этих слов я понял, что хитроумный Улисс — Горемыкин вовсе не по собственному желанию ушел от власти, что, наоборот, проектируя роспуск Государственной думы, он одновременно уже мысленно проектировал и дальнейшие шаги государственной власти, а именно изменение выборного закона, причем этот акт должен был быть совершен при участии Государственного совета.
Что же касается Высочайшего манифеста, то узнал я о порядке его возникновения и составления лишь значительно позднее. Дело было так. Столыпину государь предложил быть председателем Совета министров еще до подачи Горемыкиным прошения об увольнении от должности, причем роспуска Государственной думы не предполагалось произвести ни государем, ни Столыпиным. Единственным условием своего назначения главою правительства Столыпин поставил увольнение Стишинского и Ширинского, на что государь и изъявил свое согласие. Мысль Столыпина, которую всецело поддерживал Д.Ф.Трепов, состояла в том, чтобы в его назначении как общественность вообще, так и Государственная дума в частности усмотрели поворот правительства в сторону большего либерализма. Столыпин мечтал заменить Ширинского и Стишинского лицами из состава Государственной думы, чем он надеялся, что Государственная дума удовлетворится, а возможно будет, следовательно, ее сохранить и установить с нею отношения. Однако Горемыкину удалось убедить государя распустить Государственную думу и получить царскую подпись под соответствующим указом. Об этом, разумеется, тотчас узнал Столыпин, но изменить этого решения он уже не мог или, вернее, не решился даже пытаться этого достигнуть. Все, что ему представилось возможным при этих обстоятельствах сделать, это по возможности смягчить впечатление, которое, несомненно, должен был произвести роспуск Государственной Думы, сопроводив указ об этом роспуске особым манифестом, которым подтверждалось бы намерение государя сохранить в будущем народное представительство. Получив принципиальное на это согласие государя, Столыпин, вернувшись 8 июля из Петергофа, после того, что он побывал в Совете министров в квартире Горемыкина, тотчас пригласил к себе нескольких человек, а именно Щегловитова, с которым он в то время дружил, С.Е.Крыжановского, занимавшего должность второго товарища министра внутренних дел, и, наконец, Федора Дмитриевича Самарина, который почитался в то время за всеми уважаемою общественного деятеля. Когда эти лица вечером того же дня у него собрались, он сообщил что цель собрания — немедленное написание Высочайшего манифеста с указанной мною выше целью. Присутствующие немедленно приступили каждый в отдельности, к этой работе. Проект Щсгловитова, как мне говорили, скучный и расплывчатый, был единогласно отвергнут. Подвергся критике и проект, составленный лично Столыпиным. Ф.Д.Самарин по природе кунктатор, не способный на исполнение чего-либо в короткое время, написал лишь отдельные клочки манифеста, среди коих, между прочим, были слова: «Богатыри мысли и дела». Слова эти Столыпину весьма понравились, и он настаивал на их включении в Высочайший манифест, причем полагал, что основой манифеста должен явиться составленный им проект, несколько измененный и дополненный некоторыми фразами, изобретенными Самариным. Проработали над этим чуть не всю ночь, и к утру лишь переписанный набело проект манифеста был отправлен к государю, откуда он был тотчас передан для напечатания в особом, вышедшем в тот же день прибавлении к «Правительственному вестнику».
Государственная дума первого созыва резко делилась на две неравные части. Во главе ее непререкаемыми вождями и лидерами стали почти все наиболее выдающиеся члены тех многочисленных и разнообразных общественных съездов, которые собирались в обеих столицах за предшествующий год. Лица эти почти сплошь принадлежали к непримиримой оппозиции правительству и по образовании, по инициативе некоторых из них, конституционно-демократической партии вошли в нее скопом. Вторую, большую часть личного состава Государственной думы составили крестьяне. Приветствуя Государственную думу, государь выразился, что он приветствует «лучших людей» России. Увы, на деле это было далеко не так. Начать с того, что судимость по уголовным преступлениям членов Первой Государственной думы была невероятно большая. Она составляла 12 % всего их состава. В малокультурной стране неизбежно должны были стать избранниками населения те лица, которые отличались наибольшею неразборчивостью при изложении тех посулов, которые щедро раздавались во время предвыборных собраний со стороны стремившихся проникнуть в нижнюю законодательную палату. Преобладающее большинство, чтобы не сказать — все без исключения представители крестьянства, стремилось туда ради тех денежных выгод, которые были связаны со званием члена Государственной думы. Десять рублей суточных, присвоенные членам Думы, — вот что привлекало туда представителей крестьянства, причем были случаи, что избранные обязывались их избирателям передавать часть полученного денежного вознаграждения тому или иному крестьянскому общественному установлению.