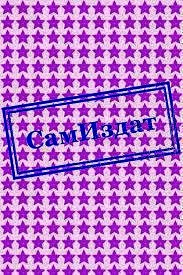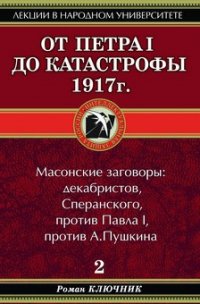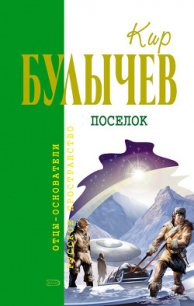Мои воспоминания (в 3-х томах) - Волконский Сергей (читать книги полные TXT) 📗
Студийцы эти хорошо ко мне относились. Однажды иду по Остоженке -- с другой стороны улицы меня окликают, и перебегает ко мне один из них, Зенкевич была его фамилия; он был председателем совета учащихся, умный, дельный, коммунист.
-- Сергей Михайлович, наши курсы яблоки получили, и на вашу долю мы отложили. Вот адрес, а вот билет на получение.
-- Ну что вы беспокоитесь. Вам нужнее, я и без яблоков проживу...
-- Нет, нет, мы знаем, что вы больше каждого из нас работаете.
Признаюсь, это был, может быть, самый ценный для меня в жизни комплимент, это признание из уст коммуниста...
Впрочем, справедливость заставляет меня упомянуть еще один случай. Меня приглашали по телефону в одно заведение читать лекции. Я отказывался за неимением времени, но вот третий телефон: ну хоть только зайти поговорить, -- может быть, и устроится. Призыв был настолько убедителен, женский голос настолько искренен, что я пошел. Ничего из совещания нашего не вышло, потому что времени у меня действительно не было, но я нашел большое сочувствие и к моей работе, и к тому, что я рассказал про условия, в каких живу. Я ушел, искренно сожалея, что обстоятельства не позволили мне принять приглашение...
Каково же было мое удивление, когда через три дня я получил банку сгущенного молока и бутылку портвейна от той самой особы, с которой вел переговоры. Только много месяцев спустя узнал я, что она одна из виднейших коммунисток...
Возвращаюсь к инструкторам.
Зенкевича я раз встретил уже после того, что перестал у них читать. Он приходил в Институт слова, где я читал, присутствовать на заседании в качестве представителя какого-то общемосковского учреждения учащихся. Он был похудевший, дерганый, измученный. Я бы не удивился, если бы услыхал, что он кончил сумасшедшим домом. Да, вот это бывало страшно в Москве: надо было видать людей два раза, раз в неделю, а если с большими промежутками, то жуткая замечалась перемена, и нужно было над собой произвести усилие, чтобы не выдать своего впечатления... Что сталось с этими курсами, не знаю.
В сентябре 1921 года на Никитской кто-то меня приветствует.
-- Простите, не узнаю.
-- А я с рабоче-крестьянских курсов.
Я обрадовался, хоть и не узнал. Спросил про курсы -- он только рукой махнул:
-- Нет больше ничего, и все рассыпались, я еще вот брожу.
У него на плечах был мешок. Я спросил, как его фамилия.
-- Медведев.
-- Как?! Вы Медведев?! А я вас не узнал... Как я любил ваши ответы, а еще больше ваши вопросы!..
Хотелось пригласить его зайти вечером, чтобы узнать о кончине курсов, но я через два дня уезжал в Петербург, а оттуда, надеялся, дальше. Мои последние вечера были заняты. Мы простились... Никогда в жизни мы не увидимся, но там, на Никитской, остался навсегда образ этого бедного человека, худого, с открытым воротом и мешком на спине. А были когда-то горящие глаза, и рука так радостно записывала...
Еще одного из моих инструкторов упомяну. Шантаев был прекрасный образец русского человека. Он служил на одной рязанской фабрике. В те трудные времена, которые переживали курсы, он вместе с Зенкевичем был неустанный борец: ходил по учреждениям, записки подавал, секретарствовал на заседаниях. Сколько мучительных хлопот, и для чего?.. В Шантаеве, можно сказать, слился и выразился весь дух этого злосчастного заведения. Он прекрасно понимал, чего он не знает, что ему нужно, почему не соответствуют курсы своему назначению. Он был как больной, который знает свою болезнь и знает, как ее лечить надо. Как-то давно-давно слышал про одного врача, который внезапно лишился дара слова; он пальцем показывал на левую руку выше локтя, давая этим понять, что ему нужно сделать подкожное вспрыскивание. Вот что мне напоминал Шантаев, и он был как бы воплощением всего состава курсов.
Я этим людям очень благодарен. Среди них были и коммунисты, и некоммунисты, но не забуду единодушия, с каким они постановили выразить негодование по поводу того, что в нашу квартиру вселили проститутку. Я в тот день из-за домашней суматохи опоздал на лекцию и объяснил почему; рассказал, как это произошло и в каких грубых издевательских формах; как комендант кричал на всю квартиру: "Если вы ей не поставите кровать, в двадцать четыре часа будете выставлены из квартиры!" Без различия убеждений мои инструктора все испытали обиду от такого обхождения с их преподавателем... Да, есть хорошие люди в России...
И последним из них упомяну одного, имя которого забыл, но не его самого. Он был Вятской губернии, часто к нам приходил, и в доме его звали "вятич". Так он и остался в памяти, а фамилия стерлась. Большой, радостный простак. Он часто ездил на родину, привозил грибов, которые сушила его бабушка. Он носил привезенную с родины белую шубку мехом наружу -- на севере кухлянками зовутся -- и огромную пегую папаху. От него веяло северными лесами. В его рассказах -- старые скиты, чистые бревенчатые горницы, многоводные реки.
И смолой и земляникой
Пахнет темный бор...
Когда вспоминаю людей, приходивших к нам, сейчас рисуется в памяти наша кухня. Ведь кухня была единственная общая комната, это была гостиная; здесь мы принимали. Здесь вокруг печурки сходились и жильцы и гости. Тут и дрова кололи, и распиливали и воду носили, и пищу готовили. Сюда же стекались все новости: обыски, аресты, расстрелы, болезни, декреты, требования домового коменданта -- все это обсуждалось вокруг печурки когда с волнением, когда со слезами, а когда и со смехом. Печурка играла большую роль в жизни; она стала символом, все равно как самовар: в ней была семейственность, домовитость, последний остаток "очага".
Да, печурка занимала большое место в тогдашней жизни. Иду по бульвару, слышу: две дамы разговаривают, одна другой, по-видимому, расхваливает свою знакомую: "Ну если бы вы знали, какая она приятная, уютная, экономная..." Кто, думаю, эта особа, награжденная всеми добродетелями? Дама продолжает: "Такая опрятная, не дымит"... Тут я понял, о ком речь.
Наша печурка, кроме всего прочего, была еще и мудрая; мудрая, потому что примирительница. Перед ней умолкали разности убеждений, перед ней утихали недоброжелательства; к ней подходили осторожно, выжидали очереди, друг другу уступали, друг другу помогали.
Наш "уплотнитель" был Иван Михайлович Касаткин, коммунист, из "старых", 1902 года, и в коммунистической иерархии важный человек. Должен сказать, что всегда буду вспоминать с уважением то, как он себя держал по отношению к нам, и знаю, что это взаимно.
Вообще скажу, что одно из ценнейших чувств в жизни -- то уважение к человеку, которое пробивается сквозь враждебность убеждений, тот мост, который это уважение перекидывает через непроходимые, казалось бы, пропасти.
Жена Касаткина, Вера Дмитриевна, была милый человек и очень хорошенькая: круглое личико, глаза, как вишни, и сияющая улыбка. У нее был исключительно прекрасный голос -- настоящее, глубокое, сочное контральто. Она была моей ученицей по Музыкальной драме. При других условиях из нее, несомненно, вышла бы знаменитость; но в том царстве чепухи, конечно, и она заглохнет... Чтобы их вселить, меня выселили из той комнаты, где было фортепиано; но благодаря добрым отношениям я все же имел доступ к инструменту, что при тогдашних обстоятельствах мне было очень дорого...
В эту же кухню приходили и мешочники, крестьяне ближних и дальних мест, предлагали крупу, мясо, масло; бабы-молочницы приносили молоко, творог, яйца. Спрашивал я их, как у них в деревне живется. Нарочно спрашивал, -- отлично знал, какой будет ответ. Ответ всегда бывал один: "Ох, трудно, барин! Тяжко, ваше сиятельство! И не поверите, как тяжко; и что только дальше будет..." Но тут я же на них наваливался: "Как! Вы все, что хотели, получили, нас обобрали, поразогнали, порасстреляли, сейчас нас застаете, сами видите, как: дрова колем, воду таскаем, печку топим, у вас припасы по неслыханным ценам покупаем; с утра до вечера, все потерявши, мы работаем, а вы, все получивши, к нам же приходите жаловаться? Да ведь вы же наши правители. А мы вам разве жалуемся?.." И на это ответ всегда бывал один: "Да мы что, мы разве понимаем..." Так раздавалась песенка о деревенской темноте в ответ на лучи коммунистической "зари"... А одна молочница так выразилась: