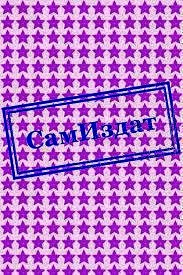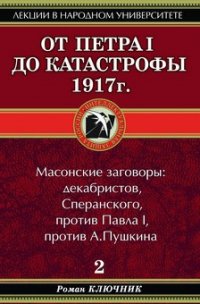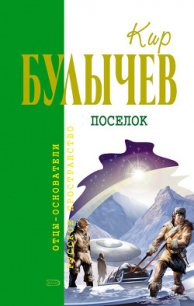Мои воспоминания (в 3-х томах) - Волконский Сергей (читать книги полные TXT) 📗
-- В этой комнате кто?
-- Волконский, преподаватель, лектор.
-- Бывший князь? Вон его отсюда.
-- Да ведь он лекции читает в скольких учебных заведениях.
-- Знаем, Луначарский много таких понабрал.
-- Он и в Кремле читает, и в Военной академии.
-- Ага? Вон уж куда пробрался... Ну, одним словом, пусть очищает.
Звезда захотела, чтобы этот человек уехал на фронт, и его распоряжение повисло в воздухе. Дамоклов меч на этот раз не упал, но всегда висел над головой...
Мое повествование, уже чувствую, кажется читателю разбросанным. Что же делать, когда сама жизнь была такая. Разве не разбросанность, что на заседании по балетным вопросам я должен давать сведения о моих родственниках-заложниках? Не разбросанность, что, начиная лекцию в Военной академии, я должен извиниться за опоздание, потому что только выпущен из Чеки? Между острогом и уроком пластики, между расстрелом и репетицией -- так проходила жизнь. Прихожу раз на лекцию в Ритмический институт, вижу: прелестная белокурая девушка в глубоком трауре.
-- Почему вы в трауре?
-- Моего брата расстреляли. Небольшая пауза.
-- Ну-с, господа, что мы сегодня читаем?
-- "Осел и соловей".
-- Начинайте: "Осел увидел Соловья..."
Так проходила жизнь. А мотания по канцеляриям! Пропуска, свидетельства, удостоверения, разрешения; прошения, "анкеты" в двух, трех, четырех экземплярах! Искание адресов, в доме искание комнаты номер такой-то; ожидание в очередях... Ведь все это вперемежку с делом, которого упустить тоже нельзя. Сколько бумаги, сколько времени! Никогда столько не шло бумажек, как с тех пор, как бумага дорога. А время?! После сыпного тифа я имел право на получение денежного возмещения из какого-то отдела социального обеспечения; на Мясницкой помещался. Я три раза ходил за свидетельством, простаивал часы; еще три раза ходил, чтобы по свидетельству получить деньги, -- ничего не добился. Свидетельство у меня оставалось в кармане. Когда меня взяли в Чеку, отобрали с прочими документами и этот; когда выпускали, возвратили все, кроме этого; я только через два дня заметил. Уже назад получить не мог; вероятно, кто-нибудь другой по моему документу получил... Да, среди всеобщей дороговизны, возраставшей не по дням, а по часам, два товара были дешевы: время и человеческая жизнь...
Здесь, может быть, к месту будет сказать и о моем заключении в Чеку. В первых числах августа 1919 года возвращаюсь как-то вечером после трудового своего дня, племянница говорит, что был без меня в моей комнате обыск; ничего не нашли. Только успел разогреть себе чего-то на печурке -- звонок. Чекист с ордером на мой арест, в сопровождении солдата. Собрал узелок, подушку, одеяло, сели на извозчика, поехали. Чекист говорит, что придется нам заехать на Никитскую -- другой арест. Подъезжаем к огромному дому княгини Шаховской-Глебовой-Стрешневой. Перед тем как войти со своим конвойным во двор, чекист свистнул в свисток. Явился милиционер, я остался на извозчике один. Тут я слушал разговор извозчика с милиционером и подумал: если бы те люди слышали, что эти двое о них говорят, то, конечно, не меня, а их бы повезли в Чеку... Я уже начинал дремать, когда почувствовал, что рядом со мной кто-то сел. В темноте различаю худого старика. Всматриваюсь: граф Стенбок-Фермор, состоявший при великой княгине Елизавете Феодоровне. Я давно его знал: он в восьмидесятых годах был чиновником особых поручений при тамбовском губернаторе Фредериксе и с ним приезжал в Павловку... Уселся, поехали: солдат рядом с извозчиком, а чекист против нас, стоя, прислонившись к козлам, спиною к кучеру. Мой сосед очень волновался; мы говорили по-французски; он сказал:
-- Хотел бы я знать, за что нас арестуют.
-- Потерпите, говорю, уж нам скажут, прежде чем расстрелять.
И вдруг чекист по-французски перебивает: "Нет, уж до этого, могу вас заверить, не дойдет".
После этого он стал даже до известной степени приветлив, видимо, желая снять с нас всякое беспокойство. По-французски он говорил бегло, но с ошибками, при этом подпускал словечки и выражения бульварного характера, которые звучали очень смешно рядом с общей неточностью и в этой совсем удивительной обстановке. Когда мы въезжали за решетку на Лубянке No 9, я спросил:
-- Quelle heure est-il? (Который час?) Он вынул золотые часы и произнес:
-- Il est minuit tapant. (Ровно полночь.)
Но мы не были на бульваре: мы вошли в нижнюю дежурную. Меня стали расстегивать и обшаривать. Чекист, чьи руки занимались этим благородным делом, спросил: "Откуда у вас этот галстук? У меня совсем такой". Я хотел сказать, что не хочу с ним разговаривать, но он мог это и без того заметить, раз я ему не отвечал...
В камере, небольшой, в два окна, было двадцать человек. Между окон стол, по стенам нары. Публика самая разнообразная. Знакомого только одного нашел: старого москвича Ивана Павловича Шаблыкина. Он был арестован накануне, и, судя по вопросам, на которые с него потребовали письменных ответов, -- за его придворное звание. В этом я убедился сам, когда через час меня повели к следователю. За одним столом я увидал Николая Ивановича Тютчева, внука поэта, писавшего ответы на вопросы. Дали и мне вопросный лист. И какие глупые вопросы! "С кем из царской семьи были знакомы? За что получили придворное звание? Участвовали ли в придворных церемониях?"
Я просидел две ночи и два дня. Тяжело было сидение, а главное -- неведение. По утрам выпускали во дворике походить; тут сходились из других камер, человек шестьдесят. На второй день ждали посещения какого-то комиссара; нас заставили вынести доски, на которых мы спали, и обливать их кипятком, чтобы умертвить клопов, которые в несметном количестве облепляли изнанку этих досок...
Обхождение было грубое, но, странно, чувствовалось, что это есть как бы форма, что так полагается. Самый большой крик неудовольствия подымался, когда просились "выйти": они были обязаны сопровождать заключенных до "места назначения" и находили, что слишком часто... Во дворе с винтовкой сторожил солдат, резко отличавшийся от наших наблюдателей: белокурый детина с добрыми голубыми глазами, он производил впечатление тихого озера среди окружающей мути. Это был колчаковский пленный...
Самое отвратительное, что я там видел, да не только там, а вообще в жизни, это женщины -- надзирательницы за женскими камерами. В гладком парусинном одеянии -- не то платье, не то рубашка, -- стриженые волосы, кожаный пояс и на поясе в кожаном футляре револьвер. Все женщины мира должны были бы соединиться, чтобы вынести приговор этим существам женского пола: перестав быть женщинами, они не сделались мужчинами: они перестали быть людьми. Большинство латышки, но есть, к сожалению, и русские. Есть среди них такие, которые расстреливают. Одна очень ценится за меткость руки; когда ночью ее будят, она спрашивает:
-- Сколько?
-- Пять.
-- Не стоит... Поворачивается и засыпает.
Другая кормит ребенка; когда ее требуют к исполнению обязанностей, она кладет ребенка, идет, исполняет, потом возвращается к ребенку. И муж говорит: "Не правда ли, моя жена героиня!"
Да, от тамбовской комиссарши до московских рассельщиц -- собственно, нужны ли еще другие картины "озверения" и "разрушения"? Когда женщина озверевает и материнство разрушено, чего же еще? О чем думают все "Лиги женщин", "Покровительства материнства", "Спасения детей"?..
Да, жажда крови -- это как бы чекистский алкоголизм. И это было везде, по всей России и не в одной России. Венгерские коммунисты во время кратковременного своего владычества выказали примеры коммунистического "запоя". Одного человека вздернули на веревке, но его ноги касались земли. Заведовавший казнью секретарь Бела Куна, Самуэль, приказал снять его, обрубить ноги и снова вздернуть. Это мне рассказывал очевидец.