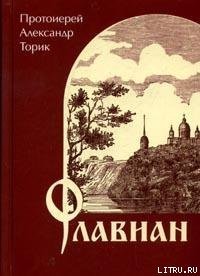О себе… - Мень Александр (читаем книги .txt) 📗


У развалин дворца Мещерских в Алабине. О. Александр и о. Сергий Хохлов с семьей. 1963 г.
Между тем у нас на приходе произошло маленькое — а может быть, и большое — «недоразумение», которое поставило «аббатство» под удар и в конце концов вообще все разрушило. У Николая Николаевича Эшлимана был приятель–историк Вася Фонченков[111], сын известного партийного работника — настолько известного, что после его смерти в газете был даже портрет в траурной рамке. Этот Вася Фонченков — молодой человек немножко авантюрного склада, любящий качать права, — часто бывал у Николая Николаевича. Он вообще любил поговорить о монархизме. Был он историк по образованию, кончил университет, работал в Музее истории и реконструкции Москвы и очень любил царскую фамилию: собирал какие–то материалы — сначала интересовался как историк, а потом вообще возлюбил… У меня с ним особенных отношений не было — так, если к Николаю придем, Вася тут как тут, что–нибудь расскажет новенькое — он вечно собирал какие–то коллекции, музейные редкости, всюду бывал… К тому же, хотя он был крещен с детства, если я не ошибаюсь, бабушкой, но христианизировался, воцерковился сравнительно недавно.
И вот он приехал ко мне, в мое «аббатство», и говорит: «Есть у меня друг, — кажется, они даже учились вместе, — тоже историк, Лев Лебедев[112]. Он научный сотрудник истринского музея Новый Иерусалим, стал православным, обратился и даже подумывает, не подать ли ему в семинарию. И вообще хочет с работы уходить и идти уже по церковной стезе. И начать он хочет с того, чтобы стать псаломщиком. Возьми его к себе». А вместе с ним, рядом, — юноша с белесым лицом, оттопыренными ушами, улыбкой до ушей, сугубо интеллигентный человек, как я сразу почувствовал. Быстро все схватывает, говорит вкрадчиво. Но Вася мне не сказал одного, самого главного: что он «мертвый» алкоголик. С этого все и началось.

После литургии. Пасха. Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Алабине. 1963 г.
Лев Лебедев продолжал жить на территории музея–монастыря Новый Иерусалим, а ездил к нам, в Алабино. Я его учил читать, петь, мы взяли его в штат, и он был псаломщиком. Но через несколько дней меня встревожила одна история, вообще–то ничтожная. Он начал меня спрашивать о разных вещах — вот, отец Александр, то–то, то–то — а когда я ему высказывал свое мнение, он мне начинал отвечать весьма смутно. А мне это было уже знакомо по психопатам. Психопат отличается тем, что не может высказать свою мысль. Он говорит красиво и много, а ты не понимаешь, что он хочет сказать, — и он сам не может дойти до этой сути. И вот, этот Лев темнит и темнит, и темнит — я ему одно, а он что–то другое. Красиво темнит!
Потом наступил какой–то праздник. Собрался народ; все пришли, сели, выпили. Надо сказать, я никогда не был против хорошего застолья с хорошей выпивкой, поскольку здоровье мне позволяло. Я пуританские взгляды в этой сфере осуждал. Хотя потом мне это все менее и менее стало нравиться — я просто решил, что у нас пить не умеют, и нечего устраивать этих застолий. Пить надо тем, кто умеет и кто получает от этого дружескую радость. А те, кто, когда напьется, говорит одно, а потом, протрезвев, — другое, — хуже нет, ненадежные люди! Это в деревне у нас сколько раз бывало: мы выпивали с местными парнями, и они мне клялись, что в глубине души у них есть вера, что они придут в церковь, — но я уже не слушал их, потому что знал: когда они протрезвятся, не придут ни за что. А тут мы сели, было много молодежи, разных ребят, и наш Лева Лебедев начал что–то вещать и проповедовать. (Он очень красиво говорил, у него уже была одна печатная работа — в обществе «Знание» вышла брошюра по истории[113].) Вдруг он стал что–то выкликать, а потом свалился на пол и заснул. Это первое, что меня насторожило, — такова обычная повадка алкоголиков.
Потом он приехал со своими приятелями, очень симпатичными, милыми, живыми и общительными — люди из тех, которые сразу же общаются с вами так, как будто знают вас всю жизнь (поэтому напоминают гомосексуалистов). Они говорили массу комплиментов, но как–то быстро напились и «выпали в осадок». Я только потом понял, что это сорт интеллигентных алкоголиков. Но опять–таки я как–то на это не обращал внимания: мало ли, ну устал, выпил, может, он еще и до этого выпил. Но потом мы с Сережей — с отцом Сергием — стали видеть, что что–то здесь не в порядке… И вообще мне Левино настроение стало не нравиться. После какого–то праздника идет и возглашает: «Теперь будем читать Тютчева!» Некогда было — я устал, был загружен работой, — а у него такая богемная обезьяна жила в душе, которая подзуживает: «сядем и будем читать Тютчева». Может быть, конечно, в этом ничего дурного нет, я это приветствую — я сам люблю Тютчева. Но мне не надо, чтобы мне Лев Лебедев читал Тютчева — я сам прочту.
И в скором времени он нас всех погубил. Произошло это следующим образом. У Лебедева на работе был сотрудник[114], садист (по моим наблюдениям), который настолько ненавидел Церковь и веру, что, например, приобретал иконы, чтобы чертить на них гадости, выжигал глаза святым; использовал дароносицу для пепельницы или мусорницы и т. п. Рядом с монастырем был источник, и, когда бабки туда ходили, он, изображая из себя якобы какого–то представителя власти, подходил к ним, отнимал у них бидоны с водой, в общем, пугал их до смерти. И так далее. Так вот, оказывается, как я потом узнал, наш Лев Лебедев в пьяном виде похвалялся этому своему сотруднику, что он все равно привезет священников и освятит весь музей, потому что это — оскверненная святыня. И тот, видно, был настороже. Я ничего этого не знал.
А за несколько дней до «недоразумения» Лев в мое отсутствие, пьяный, притащил мне куски керамики, которые валялись у них в музее. Мне они были не нужны, но он говорил что–то насчет того, чтобы вделать их в алтарь… Подарил несколько старинных книг. Я посмотрел: на них нет никаких печатей — хотя все было явно музейное. Это все осталось у меня…
И вот, буквально через несколько дней — это было первого июля, на праздник [иконы] Боголюбской Божией Матери — мы решили поехать [в Новый Иерусалим], просто в гости, посмотреть. Я до того никогда там не был. Мы отправились на церковной машине. Ехал со мною Эшлиман со своей женой; Наташа[115] с детьми в это время была на Юге.
Когда мы туда приехали, я сказал Льву Лебедеву (я уже знал, что он алкоголик): «Лева, пока мы находимся здесь — вы не должны пить вообще, ни капли. Всё!»
Пока мы ходили и все осматривали, я начал разговор с его женой, гречанкой по национальности. Она была настроена очень антирелигиозно, а тут я как–то ее сломил, и мы начали первый разговор «по–хорошему». Но Лев таки успел «сбегать», где–то выдул две бутылки красного вина и уже был хорош. Когда мы стали уходить, он мне положил в чемодан еще какие–то осколки, которые бы нам могли пригодиться для ремонта церкви: мраморный круг с дырочками, который можно использовать как подсвечник, еще что–то… Я с этим чемоданом выхожу — и вдруг вижу (мы были в кабинете Лебедева), как пламенная гречанка бросилась на вошедшего милиционера и выставила его вон. Я выглянул в окно, увидел, что все мечутся по двору, и понял, что надо отступать, немедленно!
Я махнул Эшлиману, и тут раздался шум — это выскочил пьяный Лев Лебедев и нанес несколько оскорблений действием своему коллеге, который, как я узнал впоследствии, вызвал милицию и заявил, что попы приехали что–то там отбирать, — в общем, что–то непотребное творить. Сокрушив начальника и упав на землю, он был тут же водружен мили–цией на мотоцикл и увезен в соответствующее место. Мы же все быстро сели в автомобиль и отбыли.