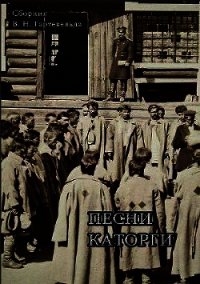Юлия Данзас. От императорского двора до красной каторги - Нике Мишель (бесплатная библиотека электронных книг TXT, FB2) 📗
«Паскаль был мистиком и поэтому даже в своих религиозных сомнениях является образцом истинно религиозного человека. Толстой был лишен всякого мистического чутья, и потому его плоское, утилитарное Богоискательство не имело даже отдаленного сходства с религией и могло быть сочтено за религиозный порыв лишь в наше безверное, духовно нищенское время, утратившее всякое понимание религиозного чувства.
Мистиками могут быть даже атеисты, как, например, Шопенгауэр, Ницше, Геккель. Ибо мистика есть свойство духа, а не рассудочное влечение» (с. 13–14).
«Мистика – сознание близости Неведомого, ощущение родства с вечностью» (с. 14). И лучше всего это выразил мистик-атеист Ницше: «Denn ich liebe dich, oh Ewigkeit!» [43]
В шестой главе Юлия передает ответ митрополита Платона [44] на вопрос Александра III о том, почему русский народ покидает Церковь и уходит в штундизм (секта протестантского происхождения, распространенная на юге России, в которой люди жили трудолюбивыми, трезвенными общинами): «Народ ищет Бога, и в Церкви встречает лишь холод и тьму, и бросается в сектантство» (с. 15) [45]. Интеллигенция также ищет Бога, но Он не может быть «только философским принципом»: «Он – источник всех духовных потребностей, Он – не только причина, но и цель всего сущего, Он – вечно близкая загадка, заполняющая духовную жизнь, Он – вечная отчизна тоскующего духа!..» Но эти запросы не находят сочувственного отклика в Церкви: «Во что обратилось христианское Богопознание в ее сухих, бездушных учебниках?» (с. 16). В грозную Судию или в бесконечное всепрощение, добродушие, что делает ненужной любую попытку самоусовершенствования. Юлия также приводит превращение Богоискательства «в идею пресловутого богостроительства на почве шарлатанских социальных утопий» [46]. Христианство сильно отдалилось от «мистических созерцаний основателей христианства, от глубокой метафизики их Богопознания…» (с. 17): «Der Gott ist gestorben!» [47] «И просящим хлеба духовного дается если не камень, то в лучшем случае тетрадка прописной морали. […] Нет проповеди царствия Духа для обезумевшей от духовного голода толпы. Те, кому вверена забота о поддержании божественной искры в человечестве, сами ее гасят. Те, кому вверено пастырство, сделали из Царствия Божьего свою вотчину» (с. 18–19).
Можно подумать, что к такой критической картине Православной церкви, которой Юлия противопоставляет Латинскую церковь, ее привело общение с высокопоставленными русскими церковными деятелями (см. гл. II): «На Западе, пожалуй, католицизм еще борется с грозными признаками упадка – сперва при папе Льве XIII, пытаясь сблизиться с социализмом, а ныне, порвав с этим опасным союзником, прилагая все усилия к возрождению старых мистических идеалов». Но на Востоке царит равнодушие: «Кому ныне дорого православие? Разве только тем, для кого оно является политическим лозунгом и знаменем в партийной борьбе – или же просто уважаемою традицией. Церковь безжизненна, холодом смерти веет от нее…» (с. 19). Русская церковь «отвернулась от мистики и погубила себя уступками рационализму» (с. 20) и тягой к лютеранству со времен Петра Великого (с. 23) [48]. Обычно такие упреки православные адресуют Католической церкви! Русский народ – «народ-мистик, от веры требующий чуда», ищет «духовной пищи то в аскетических отраслях раскольничества, то в оргиазме хлыстов» (с. 25). Сами рационалистические секты – такие, как Штунда у крестьян, баптисты в городе или последователи Пашкова среди интеллигенции, – движимы тем же идеалом духовного братства в союзе с Богом (с. 25–26). Все эти течения дикого мистицизма угрожают Церкви, если она ограничится «благотворительностью». И забудет призыв Христа: «ищите прежде всего царствия Божьего и правды его» [49], царствия, которое «внутри вас есть» (Лк. 17: 21). «Любовь к ближнему – лишь первая ступень лестницы духовного совершенствования, на вершине которой – полнота духовного восторга и чудотворной силы» (с. 28).
«Короче говоря, христианство утратило свой первоначальный дух и обмирщилось. Сама наука отказалась от «союза с узким рационализмом и усомнилась, наконец, в непреложной верности данных, воспринимаемых только пятью внешними чувствами. Душевные восприятия ныне стали предметом научного исследования, грани эмпирического познания раздвигаются с каждым днем» (с. 29). Один только монашеский идеал отвечает духовной жажде: «Смысл монашеского идеала именно в том, что он дает ответ на
все
запросы духа и плоти, сокращая до минимума телесные потребности, оставляя простор для максимального развития духовных сил» (с. 34). Юлия приводит большие цитаты (на французском языке) из «Апостолов» Ренана – «этот атеист по недоразумению, мистик в душе»:«Остережемся быть участниками падения добродетели, которое угрожало бы нашему обществу, если бы христианство начало дряхлеть. […] Когда целые страны были обращены в христианство, устав первых церквей стал утопией и нашел себе приют в монастырях. […] Может ли христианство быть совершенным без монастыря, когда только в монашеской жизни воплощается евангельский идеал…» [50] (с. 35).
Вот они, причины, объясняющие возникшее у Юлии в 1914 г. призвание к монашеству: секуляризация Церкви, утрата мистического смысла христианства. Юлия считала, что упадок мистического христианского идеала начался с XVIII века, с верой в прогресс и счастье на земле. Редко звучали голоса тех, кто предостерегал от этой иллюзии, как Луи-Клод де Сен-Мартен, которого цитирует Юлия.
Затем дневник прерывается до декабря 1915-го, то есть на полтора года. Война упоминается на двух страницах (глава 11, с. 45–46, приведенные ниже в главе IV). Затем еще одна страница, датированная ноябрем 1916 г. о войне и влечении к смерти, и Юлия вновь утверждает необходимость взяться за перо:
«А жизнь предъявляет свои права. После двухлетнего поглощения всех духовных сил одним лишь страстным увлечением [51] снова из глуби души поднимаются старые запросы духа и мышления, старые потребности отвлеченного созерцания. „Sum, ergo cogito“. [52] Мысли проносятся бесконечной вереницей, теснятся в усталой голове, кружатся в выси, как стая птиц, вспуганная канонадой, но не дают себя закрепить на бумаге, точно утеряли, среди всеобщего хаоса, способность кристаллизации или же просто чуждаются моей походной обстановки. Да и перо, приученное за два года к грубой канцелярской работе, точно отвыкло работать для себя… Но дух тоскует. […] Надо вновь приучить мысль к сосредоточению, отбросив столь удобное оправдание недосугом. […] „Nulla dies sine linea“ [53]. […] Мне необходима работа мысли и духа для успокоения мятежной души, для заглушения голоса гложущей меня тоски» (с. 47–48).
И снова поднимаются вопросы, уже с новым мотивом – ощущением избранности для подвига, еще неясного, и признание в презрении к толпе посредственностей (гл. 13, с. 49):
«Что такое мое „я“? Почему наравне с полным презрением к жизни и столь неудержимым подчас тяготением к смерти меня иной раз так властно охватывает чувство какого-то призвания, ради которого надо себя беречь, так как мне суждено свершить нечто великое? Бывает ли это чувство у других людей или только у избранников – не знаю, но порою мне так ясно чудится, что я именно избранник принадлежу к числу избранных. Что это – самообман, самомнение или смутное чутье истины?.. Но как только вопрос этот ясно встает перед разумом, его смывает холодная волна скептицизма. Какой же я избранник? Уже полжизни прожито, и ничего не достигнуто, и даже не видно пути, идя по которому можно было бы совершить что-либо великое. Да и чего добиваться? Славы? Я слишком презираю людей, чтобы дорожить их мнением, а восторги толпы возбуждают во мне лишь брезгливость. Великого служения России? Но где то поприще, на котором я могла бы отдать ей все свои силы с великой и явной в моих глазах пользой? Да и что может дать женщина родине, хотя бы безумно любимой, если она судьбою не возведена на престол Екатерины Великой?.. Нет простора силам, нет успокоения мятежно-тоскующему духу, нет оправдания смутному чаянию подвига…» (с. 49).