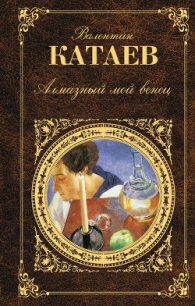Святой колодец - Катаев Валентин Петрович (читать книги онлайн полностью без регистрации .txt) 📗
Книга превращений. Концерт. Репортаж.
Вдоволь насмотревшись в темный иллюминатор самолета компании «Дельта» на ночные города, разбросанные в просторах континентальной Америки, как связки елочных украшений, я стоял в номере лосанжелосского отеля возле стандартного торшера, прижав к уху телефонную трубку, и слышал ее голос. Самое поразительное, что это был не чей-нибудь другой, а именно ее голос, и он произнес с волнением мое уменьшительное имя и сказал, что она ждет меня вот уже целую неделю, никуда не отлучаясь из дома.
– Вы рады? – спросил я.
– Очень, – ответила она с тем особенным, тайным значением, с каким она всегда произносила это слово в прежней жизни. Это было «ее» слово. Она носила его на себе, как брошку с полудрагоценным камнем. Оно – это слово – выделяло ее изо всех ее подруг. Оно сводило с ума ее поклонников: произносить слово «очень» именно с такой интонацией, в которой можно было найти любой самый сладостный смысл, было ее изобретением.
– Вы любите Брамса?
– Очень, – произносила она негромко, значительно, заставляя предполагать всю глубину, страстность и богатство ее натуры.
– Вы любите осень?
– Очень. – Она слегка опускала на карие глаза свои женственно выпуклые веки.
– Вы любите весну?
Веки радостно поднимались:
– Очень! – И взгляд ее проникал в глубину души. Однажды я, преодолевая робость, за которую сам себя
презирал, в отчаянии спросил, стараясь улыбнуться замерзшими губами:
– Вы меня любите?
– Очень, – ответила она серьезно глубоким, приглушенным голосом и посмотрела мне прямо в глаза своими совсем некрасивыми глазами, которые казались мне прекрасными.
Боже мой, как я мучился!
Студент Саша Миклашевский, богач и красавец, спросил ее:
– Вы любите кататься на лодке при луне? У меня есть на Ланжероне ялик.
Он был высок ростом и строен.
Она подняла к нему головку, отягощенною короной каштановых волос с челкой, и, глядя на его маленький румяный рот, который он в это время незаметно для себя облизывал, сказала:
– Очень.
А потом все играли в поцелуи, и, когда настала их очередь, они удалились в соседнюю комнату, побыли там некоторое время и вернулись с таинственными, скромными улыбками, и я тогда чуть не сошел с ума от ревности: мальчик-гимназист, у которого на глазах у всех отнимали его девочку.
Но все же это было ничто в сравнении с тем отчаянием, даже ужасом, когда много лет спустя, после долгого отсутствия, после войны, Сморгони, удушливых газов, ранений, Февральской революции, многих романов и связей с разными женщинами, считая, что я уже навсегда избавился от своей юношеской любви, казавшейся мне совсем несерьезной и даже комичной, я пришел к ней и застал в гостиной молодого человека – мальчишку, – курчавого ученика музыкального училища. Он, не сводя с нее огненных, нежных, молящих глаз, аккомпанировал себе на старом рояле, ударяя по желтым клавишам своими железными пальцами виртуоза с такой страстью, что в пыльной мещанской гостиной вся плюшевая обстановка ходила ходуном и не было слышно грохота ломовиков, мчавшихся порожняком под балконом по Херсонскому спуску на Молдаванку, пел романс «Безумно жаждать твоих лобзаний», а она стояла – маленькая, с чувственно полуоткрытым ртом, полуопущенными веками – и смотрела на его скачущие, худые, почти мальчишеские руки с кольцом, сплетенным явно из ее волос, на одном из пальцев… Его звали Рафаил, Рафа, фамилию его я уже забыл.
– Вам нравится? – спросила она меня.
– А вам?
– Очень.
Тогда я мог бы убить себя, если бы, по счастью, не оставил свой офицерский наган дома на вешалке.
На рассвете мы возвращались с ним, усталые, измученные, по пустынному и неряшливому после дневных митингов городу, и он торопливо шагал рядом со мной, слегка подскакивая, по шуршащим осыпавшимся сухим цветам белой акации, ласковый, доброжелательный, нежно поглядывая на мой Георгиевский крест, мерцающий в предутренних сумерках, зеленоватых, как морская вода.
Через сорок лет, прижав к уху телефонную трубку, в Лос-Анжелосе, машинально положив свободную руку на небольшое, изящное издание библии на английском языке – убористый шрифт, тончайшая бумага, – непременную принадлежность каждой американской гостиницы, я как будто бы не просто разговаривал по телефону со знакомой дамой, которая объясняла, как отыскать ее дом, а давал какую-то странную клятву. В то же время я видел за окном внутренний сквер с квадратными газонами, каннами и магнолиями, угол светло-серого бетонно-стеклянного многоэтажного корпуса, вдалеке две светло-серые бетонные эстакады, одна над другой, наискосок, – знаменитое круглое здание, – и редкий поток неподвижных автомобилей как наглядное доказательство того, что неподвижность есть всего лишь форма движения. И наконец я видел перемежающиеся ряды высоких железобетонных светильников и еще более высоких вашингтонских пальм с непропорционально маленькими головками-метелочками, порыжевших и поломанных сухим зимним ветром из Мексики, острым, как наждак, холодным, беспощадным, несущим вдоль калифорнийских пляжей длинные, плоские тихоокеанские волны, такие же дикие и враждебные всему живому, как и те злые чайки, которые на раскинутых крыльях носятся над ними, оглашая окрестности убийственно механическими кошачьими криками.
…И однообразно голубое (может быть, даже синее) небо, отполированное все тем же мексиканским ветром, проносящимся откуда-то из Сан-Диего над скучными промышленными апельсиновыми садами, которые были увешаны смугло-желтыми стандартными – один в один, – как бы искусственными плодами, подогревающимися снизу керосиновыми печками, возле каждого дерева, – ветром, проносящимся над вечнозелеными кустами растения «пуан-сета», осыпанного ярко-красными цветами, хорошо заметными издалека, как сигнальные огни семафоров, над игрушечной страной Диснея. Эта страна казалась воплощением моего детского представления о мире с его резиновыми слонами, обдающими наш колесный пароходик струями воды, как из брандспойта, с путешествием на подводной лодке, где в иллюминаторах сквозь бисерные потоки воздуха передо мной передвигались безмолвные картины зеленого подводного царства. И среди колышущихся водорослей и мутных обломков кораблекрушений таились все сокровища моей фантазии: громадная раковина, рубчатые створки которой – как бы дыша! – медленно приоткрывались, показывая неземную радужную белизну жемчужины величиной с кокосовый орех; возле обломка грот-мачты, обросшей тропическими моллюсками, позеленевший бронзовый сундук, из которого на илистое дно струились золотые монеты – старинные полновесные дублоны! – и морское чудовище смотрело на меня выпученными глазами, между тем как мексиканский ветер все проносился и проносился – над виллой Стравинского, одно имя которого само по себе уже было как бы зимним ветром из глубины Мексики со всеми его смычковыми, духовыми, ударными, щипковыми инструментами, связанными между собой гениальным контрапунктом; над собачьим кладбищем на вершине голого холма; над кафетериями и конторами Голливуда; над «косыми скулами» Тихого океана, за угрюмо пылающим горизонтом которого на склоне другого полушария мне все время чудились очертания моей страны; над вечерней улицей, где я наконец разыскал ее темный дом.
Еще издали я увидел ее неподвижную фигуру, хотя в сумерках она почти сливалась с обнаженным черно-железным кустарником, росшим перед небольшим одноэтажным домом. Можно было подумать, что она ждет меня здесь с незапамятных времен, вечно и уже превратилась в небольшое серое изваяние. Эта мысль не показалась мне странной, потому что формальное измерение времени, искусственно оторванного от пространства, общепринятое у людей – годы, сутки, часы, минуты, столетия, – дает лишь условное, искаженное представление о подлинном времени. С трудом переводя дыхание, я довольно быстро взошел с проезжей части улицы по каменным плитам, заменявшим лестницу, на верх поросшего травой откоса, что было весьма обычно для темноватой провинциальной американской улицы, и остановился со шляпой в руках, не в силах поверить, что передо мной действительно стоит она, и все еще продолжая думать о песочных часах, о том, что гораздо более точное представление о времени дает не песок, сыплющийся неощутимой струйкой из одной колбочки в другую, а простой камень, «с течением времени» превращающийся в песок, или же песок, превращающийся постепенно в камень и снова «с течением времени» делающийся песком, потому что здесь я не только ощущаю, но вижу разрушительное или созидающее действие времени, не отделимого от материи. Точнее всего я могу узнать время не по часам, а, например, рассматривая свою руку, усыпанную уже довольно крупными коричневыми пятнышками старости – так называемой гречкой, и я вижу неотвратимое разрушение своего тела, и когда я протягивал ей свою руку, то подумал: «Без четверти вечность». Вероятно, она прочитала мои мысли, потому что сказала: «Сорок лет» – и ввела меня в свой дом. И вот мы опять, как тогда, в начале жизни, стояли друг против друга – вот я и вот она – одни-единственные и неповторимые во всем мире, посреди традиционного американского полуосвещенного холла, где в пустом кирпичном камине бушевало, каждый миг распадаясь на куски и вновь сливаясь, газовое пламя – искусственное, неживое, слишком белое, такое же самое, как почти во всех местных холлах и ресторанах, – бесцветно слепящее и обжигающее лицо пламя богатой калифорнийской зимы, – а на низком прямоугольном длинном столе для газет и журналов, тревожно озаряемый льющимся мертвым светом, стоял в серебряной раме на подставке портрет красивого господина с добрым незапоминающимся лицом – копия с фотографии – масляными красками. Я, конечно, не узнал бы «Костю» в этом респектабельном джентльмене, изображенном почти во весь рост, по колени. Если бы из-под его жилета выглядывали концы муаровой орденской ленты, то его легко можно было бы принять за президента какой-нибудь не слишком большой европейской республики вроде Португалии; все аксессуары, окружавшие его, были именно такого сорта: массивный чернильный прибор, которого он касался кистью красивой руки с тонким обручальным кольцом, и полки красного дерева с солидно переплетенными книгами позади немного седой благородной головы порядочного человека.