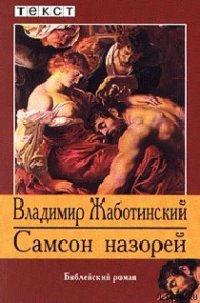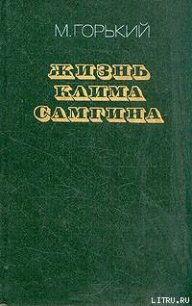Повесть моих дней - Жаботинский Владимир Евгеньевич (библиотека книг txt) 📗
В грозах российской «весны»
Тем временем был убит Плеве, рабочие в Петербурге, которых священник Гапон обещал отвлечь от «политики», провели 9 января шествие к Зимнему дворцу, чтобы потребовать дарования конституции, и несколько десятков было убито братьями-солдатами. Уже всем было ясно, что эта победа окажется решающим поражением существующего режима.
В моей деятельности этих лет наметились три основных линии: полемика с ассимиляторами и еще более жестокая полемика с Бундом, пропаганда самообороны и борьба за национальное равноправие евреев России.
«Чистого» ассимиляторства я уже не застал в Петербурге. Лагерь, который отвергал сионизм и группировался вокруг Винавера-Слиозберга и их еженедельника «Восход», уже уразумел в эти дни, что Россия — не Франция и не Германия и что нет в ней места русакам Моисеева закона. По распоряжению самого правительства были обнародованы результаты переписи народонаселения за 1897 год; смотрите, черным по белому написано, что в государстве имеется более ста народностей, и самая многочисленная из них русская — даже не составляет большинства, еврейский же народ занимает четвертое место в списке. Хотя сами ассимиляторы и признавали, что в России имеется еврейская народность, они не поняли еще, чего следовало именно требовать для нее в национальном плане, и довольствовались устаревшим лозунгом гражданского равноправия.
Платформа Бунда, разумеется, была более сложной и более путанной. Там уже вырабатывалось признание национального обособления, вплоть до лозунга «культурной автономии». Обосновывали это требование ссылками, с одной стороны, на работы австрийского автора Рудольфа Шпрингера, а с другой стороны, учением Дубнова. И следует отметить, что Бунд в эти дни пользовался решающим влиянием во всех слоях народа и не было «прогрессивного» обывателя, который не произнес бы речи или не написал бы статьи по текущим вопросам, не осыпав комплиментами могучее еврейское пролетарское движение. В тени этого бундо-дуба, но с трудом, чуть ли не украдкой, прорастали первые побеги левого сионизма, и мы, «халястра», далекие от всякого классового мировоззрения, мы оберегали их цветение против нападок Бунда… Неважно, что я писал и что я говорил, но когда минул год после моего переезда на север, уже ненавидели меня в кругах «Восхода» (мы их называли «национал-ассимиляторами»), и еще сильней в кругах Бунда, чье дерзновенное историческое назначение заключалось в том, что он служил мостом, по которому массы рабочих переходили от чистого марксизма к чистому сионизму.
Самооборона. После одесского опыта я не много работал в этой области в качестве организатора, хотя и принимал участие в какой-то конференции, которая собралась в Одессе, если я не ошибаюсь; но я слышал, что в духовном отношении этому движению помогли листовки и брошюры, которые распространялись тайно, в особенности «Сказание о погроме» Бялика в моем переводе и с моим предисловием.
В лето 1905 года я посетил Варшаву, — кажется, впервые. С детских лет я любил Польшу, что, разумеется, неудивительно, ибо такое отношение к Польше было общей традицией тех лет и поддерживалось любым прогрессивным обществом — как в России, так и во всем мире. Стихи Мицкевича я заучивал наизусть. Однажды в Одессу попала варшавская театральная труппа, и мою статью, посвященную ее представлениям, перевели и напечатали в польской газете, крайнем органе националистического движения. В некоторых городах и местечках, на севере, на юге и на востоке, я уже выступал с речами и лекциями, но ни разу не пришло мне в голову выступить в польском городе, ибо я тогда еще не умел говорить на идиш, а что до публичной лекции на языке «москалей», то в глазах польского общества это выглядело бы как оскорбление. Я посетил Варшаву только, чтобы посовещаться с сионистской молодежью, которая группировалась вокруг еженедельника «Глос жидовски», и договориться с ними о времени и месте созыва конференции «Национальная автономия в галуте».
Эту группу варшавской молодежи мы считали украшением нового поколения сионистов галута и справедливо считали. Особая глубина и утонченность, свойственные возвышенным душам, чувствовались во всем их существе, в подходе ко всем проблемам национального бытия, в духе их откликов на всякое решающее событие: то ли из-за их близости к Западу, то ли из-за особой атмосферы, насыщенной трагизмом и романтикой Польши. И в человеческом плане такие духовные явления, как Ян Киршрот и Ноах Давидсон, редки в нашем мире теперь как и тогда.
Там в Варшаве до нас дошла весть о белостокском погроме, первом серьезном погроме за пределами Украины, в городе, где половину населения составляли фабричные рабочие… Вместе с молодым Гартглассом мы вскочили на поезд и поехали в город резни. До конца своих дней не забуду я этой поездки. Вагон был полон евреями, но когда мы приблизились к Гродненской губернии, они стали исчезать один за другим, и немногие поляки избегали смотреть на нас с Гартглассом и переговаривались шепотом. Одна дама пыталась все-таки выразить свое сожаление о судьбе красивого юноши Гартгласса и умоляла его сойти с поезда. Он отклонил ее советы с ласковой варшавской любезностью и объяснил мне тихо психологическую тайну ее сострадания:
— На самом деле ей безразлично, убьют ли еще одного или нет, но она мне сказала, что она едет в Гродно, а это за Белостоком, и она решила, что если убьют еврея на ее глазах, то это неприятно.
Возможно, он был прав, потому что она внезапно встала, собрала свои саквояжи и перешла в другой вагон.
С приближением к станции Белосток мы подошли к окну: на привокзальной площади было полно сброда, они толпились около забора вдоль железнодорожного полотна и смотрели на поезд. Увидев нас, они стали показывать на нас пальцами, подзадоривать друг друга, кричать. В этот момент — поезд еще не остановился — в вагон вошел пожилой носильщик и сказал:
— Ради Бога, если есть здесь евреи, пусть не выходят, а едут дальше.
— Еще не кончилось? — спросили мы.
— Какое там «кончилось». В самом разгаре…
Разумеется, мы послушались. Поезд простоял на станции около десяти минут. Не помню, о чем я думал, но хорошо помню, что мы с Гартглассом не решались посмотреть друг другу в глаза.