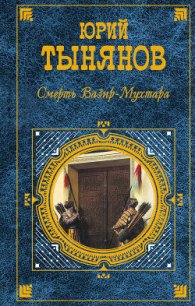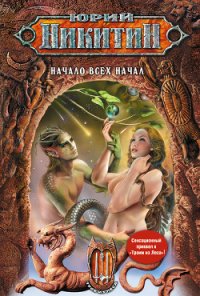Пушкин - Тынянов Юрий Николаевич (читаем книги онлайн бесплатно полностью .TXT) 📗
Она крестила его и сердилась. Сказок она ему на ночь теперь не говорила, от сказок он еще пуще не спал. Сказки она говорила только под вечер. Он никогда ее не прерывал, ни о чем не расспрашивал. Когда Левушка раз помешал им, он прибил его.
А перед сном он смеялся от счастья.
Неподалеку жили Трубецкие?Комод. Так их звали по архитектуре дома. Действительно, грузный квадратный дом Трубецких, стоявший посреди пустого двора, несколько напоминал комод. Москва всех людей метила по?своему. Дом был комод, и Трубецкие стали Трубецкие?Комод, а старика Трубецкого звали уже просто Комод. Этой кличкой он отличался от другого Трубецкого, которого звали Тарар, по его любимой опере, и третьего, которого звали Василисой Петровной. Трубецкие?Комод жили в своем доме?комоде тремя поколениями; старик, крепконосый, сухой, был уже очень дряхл и глух; всем в доме распоряжалась дочь, сорокалетняя девица Анюта. Александр часто встречал на прогулках Николиньку Трубецкого, гулявшего с гувернанткой. Они познакомились, тетка прислала Сергею Львовичу любезное письмо, и Александр стал бывать у Трубецких.
Николинька Трубецкой был мал ростом, ленив и толст, желт, как лимон. Старый дед доживал свой век и крепко зяб, поэтому зимою непрерывно топили, а летом не открывали окон. Слуги ходили по дому как сонные мухи. В комоде было тихо, душно и скучно. Казалось, и молодые вместе со стариком доживают свой век. Николинька не играл в мяч и не бегал взапуски, он был сластена, лакомка, и нежная тетка его закармливала.
Старик сидел у камина; осень еще только наступила, а он уж зяб. Несмотря на глухоту и дряхлость, дед был разговорчив и во всем требовал отчета у дочери. Увидев как?то Александра, он громко спросил у дочери:
– Кто?
Услышав имя: Пушкин, старик так же громко стал спрашивать:
– Мусин? Бобрищев? Брюс?
Дочь ответила глухому с некоторой досадой:
– Нет, mon pere (папенька – фр.), просто Пушкин.
Старик подумал. Потом все тем же глухим, надтреснутым басом он спросил:
– Бывшего Пушкина сын?
Дочь вздохнула и сказала, что это сын Сергея Львовича, соседа.
Тогда старик подумал и наконец вспомнил:
– Ах, это стихотворца!
Голос старца был такой, как бывает у человека, припомнившего что?то забавное. Видимо, Сергея Львовича он не помнил, а помнил что?то о Василье Львовиче.
Когда нежная тетка через несколько минут зашла в детскую посмотреть, как дети резвятся, Александр сидел верхом на Николиньке, довольно верно изображая скачущего во весь опор всадника, а Николинька, на четвереньках, терпеливо изображал смирного коня.
Тетке игра не понравилась.
Вечером Александр спросил у отца, кто такие бывшие Пушкины. Сергей Львович обомлел и грозно спросил сына, кто сказал ему о бывших Пушкиных. Он отдерет всех этих Николашек, Грушек и Татьянок, которые осмеливаются пороть всякую дичь. Никаких бывших Пушкиных нет, не было и не будет, и он запрещает говорить о каких бы то ни было бывших Пушкиных. Узнав, что это говорил старик Трубецкой, Сергей Львович сказал сквозь зубы, снисходительно:
– Ах, это бедный Комод! Он, бедняжка, так стар, – и прикоснулся пальцем ко лбу.
Потом он так же снисходительно, сквозь зубы, спросил сына, как ему нравится его новый товарищ.
Александр фыркнул и ответил:
– C'est un faineant, лежебок.
В голосе было такое презрение, что Сергей Львович удивился. Он не без удовольствия посмотрел на сына.
Надежда Осиповна вступила в свои владения. Низко кланялась дворня, все в новых платьях, опустив глаза.
Никогда не была она помещицей. Всю свою молодость она провела с матерью в столице, в Преображенском полку, в небольшом домике, изредка выезжая на какой?нибудь гвардейский бал. Жила в тайной горькой бедности. Каждый выезд ее стоил обеим, и дочери и матери, мук и горя. Она не помнила Суйды, где провела свое младенчество, и сельская жизнь была ей неизвестна. Поэтому она с боязнью вступила в дом чуждого ей отца. Крытый соломой, серый, он пугал ее. На людей она смотрела строго и угрюмо. Гарем старого арапа от нее попрятался.
Дом казался ей похожим на сарай: не только не видно было нигде и следов роскоши, но самые комнаты были пусты. Надежда Осиповна удивилась: с детства она привыкла считать отца богатым. Следы разрушения были насколько возможно изглажены Палашкой. В комнате, где умирал отец, стояли у кресел в зловещем порядке нетронутая бутыль с лекарством, недопитая фляга вина, тарелка; лежали сбитые в кучку: трубка, картуз табаку, шелковый шейный платок, какие носили сорок лет назад, и полуистлевшие обрывки бумаги, исписанные ржавыми бледными чернилами; а рядом большой засохший цветок, покрытый пылью и перетянутый шелковой ленточкой. Палашка, усердствуя, выложила всю заваль из кроватного столика. Цветок пах горьким старым сеном.
Она прочла бумаги отца. Это были какие?то случайные счета и письма.
"За серебро чайное, за перстень с алмазом да еще перстень с кошачьим глазом всего остается получить триста семьдесят рублей".
"Милостивый государь мой Иосиф Абрамович!
Как в прошлый авторник решения достать не мог и секлетарь велел приттить в четверток, то сумневаюсь, что есть решенье, и посему покорно прошу пожаловать Вашу милость на ведение дел, что прохарчился и что секлетарю ранее выдано, все как вы приказывали полностью. А о формальном разводе ничего не говорит и определения не дает".
"Дружок мой, черт бесценный, я всю ночь нынче без тебя заснуть не могла, все кости тлеют, руки мрут, и вся почитай истлела…"
"Но уж такой поступок в Вас обличает последнего человека. Я, сударь, очень поняла и знаю, какой ты изверг, подлец, и самый малодушный ребенок так сделать не мог…"
Все, что лежало на столике, она бросила в печь; цветок затрещал и рассыпался. Она тотчас же позвала Палашку и распорядилась изменить порядок комнат – отцовский кабинет сделала гостиною, а в гостиной – свою спальную. Девки набили новый сенник, принесли новые козлы – спать на отцовской кровати она не захотела. Выволокли шкап из комнаты, но следы от тяжелых ножек, вросших в пол, остались и тревожили ее, как след давно минувшего времени.
Наутро, едва она раскрыла глаза, забрякали под окном колокольцы: прибыл земский заседатель с подьячим. Весь день они шатались по усадьбе, мерили длинным аршином баню и какие?то кусты, и Надежда Осиповна с тревогою смотрела на все это из окна. Подьячий составил опись движимым и недвижимым вещам морской артиллерии капитана Иосифа Аннибала. Явился откуда?то благородный свидетель и нетвердою рукою подписался под актом. Он был крив и пришел с большим псом, которого привязал к крыльцу. Надежде Осиповне он отрекомендовался прапорщиком в отставке Затепленским, живущим по соседству и готовым к услугам. Потом сели, как водится, за стол, и Палашка поднесла им водки. Заседатель к концу вечера ослабел и свалился под стол. Благородный свидетель кинул ему воду в лицо и велел Палашке с девками свести его в баньку до вытрезвления. Назавтра утром заседатель с подьячим укатили, а благородный свидетель, отвязав пса, откланялся Надежде Осиповне, приложился к ручке и ушел.
– Насосались, пиявицы, – сказала им вслед Палашка, чуть ли не повторяя речь покойного Осипа Абрамовича.
Она не без основания обвиняла заседателя в пьянстве. Он был постоянным дегустатором наливок и настоек Петра Абрамыча.
И Надежда Осиповна в ожидании Сергея Львовича стала жить помещицей. Это оказалось нетрудно. Как в городе, девка приносила ей в постель чай, спала она далеко за полдень, потом обсуждала с Палашкою обед, потом гуляла, в надежде встретить невзначай кого?нибудь из соседей, а там обедала, а там критиковала обед, а потом отдыхала. Дяденька Петр Абрамыч, живший тут же в Петровском, помня ссору, к ней не пожаловал, а она к нему.