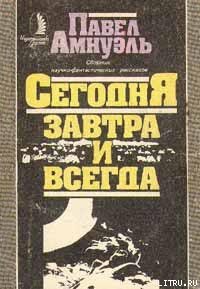Северная столица - Дугин Лев Исидорович (бесплатная библиотека электронных книг .TXT) 📗
Жизнь! Бесценный дар – жизнь!.. Он жадно смотрел вокруг. На замерзшей реке, по расчищенному льду, мальчишки катались на коньках. Морозный воздух голубел. Сквозь низко нависшие белесые облака просвечивалось солнце, и токи воздуха падали сверху вниз, делая легкими, воздушными пышные здания…
Вдоль набережной тянулся Воспитательный дом… Вот строгановский дворец… Вот Полицейский мост…
Краски мира звучали. Краски мира звучали симфонией – гранит и камни стен, пролетающие с приглушенным цоканьем копыт, с шуршанием полозьев упряжки, зимний свет, лившийся на крыши, фронтоны, аркады, изваяния… Музыка переполняла… Он достал из кармана клочок бумаги и карандаш и записал родившиеся слова…
Второй раз они встретились, чтобы проститься.
В ее будуаре от густого запаха духов и помад болела голова. Кровать с пологом стояла посредине, как трон; дешевая роскошь выставлена была напоказ: слишком яркая драпировка, слишком модная мебель, фальшивые драгоценности.
Ночью тяжелые шторы на окнах плотно задергивались, и лишь китайский фонарик горел в углу, разливая – красноватый свет. За минутой восторга открывались скука и проза жизни… И продолжения быть не могло: ничего не могло их связать даже на время – обоим было по восемнадцати лет.
– Мечты мои, – сказала она задумчиво. – Где они, мои мечты?..
Она подложила руки под голову, раскинула локти, изогнула шею, так что мягкие волосы растекались по вмятинам подушки, и смотрела в потолок.
А его насмешливый ум уже успел все измерить: этот успех не стоил больших хлопот.
– Мечты, – повторила она. – Все мне виделась впереди прекрасная жизнь…
Ночью, в тишине, ее голос не казался столь низким, грудным – в нем звучали девичьи звонкие нотки.
Будто он долго и исступленно несся вперед в каком-то чаду, а теперь оглядывался и спрашивал себя: господи, да где я, господи, да зачем я здесь?.. В том, что происходило, не было ни любви, ни счастья.
– Нас в школе сначала всему учили: и петь, и шить, и танцевать, и французскому – вроде мы барышни, – рассказывала Истомина. – А уж потом кого куда: кого в танцорки, кого в драматические… А уж кто не годен – тех в костюмерные… У нас была воспитательница – ужасно забавная, мадам Готье, все л я м у р да л я м у р, вот мы над ней шутили. Рожер, из французской труппы, прикинулся влюбленным: вздыхал, а однажды даже пригрозил размозжить себе голову, и его жена тоже участвовала, будто ревновала, – вот уж мадам Готье ликовала! А мы смеялись…
Она повернулась и приподнялась на локтях, чтобы взглянуть на молодого человека: она и сама не понимала, зачем этот курчавый, щуплый юноша здесь, с ней.
Выпили вина.
– Наш начальник, господин Рахманов, был с нами добр, – рассказывала она. – Ведь у меня ни матери, ни отца… Нас и всех-то бездомных пособирали. Вот и Марья Азарова сирота… А господин Рахманов придет к нам, бывало, в дортуары и ласково спросит: «Ну, девушки, кто из вас сошьет папеньке жилетку?» Он сам знаменитый артист, не хуже Рюрика…
– Какого Рюрика?
– Ах, все путаю, – спохватилась она. – Не Рюрика, а Гарика…
Он пил вино, но не пьянел, а трезвел: на душе делалось тяжело.
– О чем же тебе мечталось?.. – спросил он.
– Ах, о чем мечтают все девушки? Бывало, сяду с Марьей в уголок – мы с ней как сестры, сестрами и зовемся, – все говорим, говорим: какая будет жизнь?.. А как-то в деревню нас повезли, видим – господский дом, тенистый сад, старинная церковь… Господи, тишина и что-то таинственное – вот бы жить здесь. А то – в монашки пойти!.. Когда я танцую, все мне кажется: какая-то блаженная радость мной владеет – и несусь я в какую-то новую, прекрасную жизнь…
Замолчали. Молчали долго. Каждый предавался своим мыслям. И по ходу мыслей она воскликнула:
– Проклятый мусье Дидло! – Она даже привскочила. – Держит на дивертисментах да выпускает в плясках. Когда же он даст мне партию!..
Она разошлась и уже громко кричала:
– Известно, кому он дает партии: на кого укажет граф Милорадович. Да я не такая! Мне сули хоть что – я вечера не приму. Я если люблю – так люблю!
– Что ж, милейший Дидло и бьет тебя? – догадался Пушкин.
– У-у, зверюга! Он всех бьет. А что он с Даниловой сделал? Придумал такой полет: надел на нее корсет железный и сверху вниз бросил. Конечно, она грудью и заболела. Конечно, она кровью харкала – и померла…
Заботы, тяготы, хлопоты – вот что было подлинной ее жизнью.
А она смотрела мимо него на мигающий красноватый свет китайского фонарика.
– Мечтания, – сказала она уже опять тихо и грустно. – Помню, до школы, когда мать была жива, мы квартиру снимали: денег платить не было, так хозяин выгнал нас – и мы, полуголые, в одних руба-шоночках и худых шубах, по улицам шли…
Она замолчала. Томительное молчание длилось долго.
Когда пришло время расставаться, когда одернули штору, на улице было светло.
Истомина, вновь радостная, вновь веселая, легко двигалась в цветных шелковых башмачках. В пышные распущенные волосы она вплела бархатный ш у.
– Вот что я купила давеча… – сказала она и достала из бюро подвеску с золотой инкрустацией, с темно-вишневыми драгоценными камешками.
Он знал, это украшение подарено ей. Но у него были деньги.
– Разреши – я оплачу безделку?.. Она поцеловала его.
И они расстались.
…Он долго и бесцельно шагал по улицам… Нет, он жил не так, как нужно. Он растрачивал себя. На душе было тяжело. Его охватывала жажда очищения.
XX
У Карамзина – в небольшой квартире на Захарьевской улице – он бывал почти так же часто, как прежде в Царском Селе.
Вот где жизнь была полна высоких, святых устремлений и текла по-земному счастливо.
Николай Михайлович отдыхал после работы, семья собиралась вокруг него: Катерина Андреевна с вязанием сидела на диване, одиннадцатилетняя Катя, с пышным, больше головы, бантом, сидела с ней рядом, держа клубок ниток в руках, а маленький мальчик ползал по полу… И еще одного младенца качала на руках мамушка Марья Ивановна… А хорошенькая шестнадцатилетняя Софья хозяйничала за ~ чайным столом… Вот семья! Вот дом! Эта семья была, его семьей. Дом Карамзина – был его домом!.
Он приносил в этот дом свое бурное, неудержимое, бьющее через край веселье – или гнетущую его мрачную тоску…
На этот раз в гостях у Карамзина были его давний знакомый, начальник Пушкина по Иностранной коллегии, статс-секретарь Каподистрия и сын покойного попечителя Московского университета, брат Пушкина по «Арзамасу» – подпоручик Генерального штаба Никита Муравьев.
Говорили о Греции, о рабстве, о тяжком иге Турции.
Каподистрия был грек, уроженец острова Корфу.
– Нет, народ не смирился, он ждет помощи от России… От кого же еще порабощенным христианам ждать помощи, если не от России? – говорил Каподистрия.
У него лицо было смуглое, с тонкими, выразительными чертами и эффектно красивое: совсем седые волосы, а брови неестественно черные.
– Какое сходство в судьбах двух народов! – продолжал Каподистрия. – Русские страдали под игом татар, а греки – под игом турок… И подумайте, другие народы сливаются со своими завоевателями – норманны и ангры, франки и галлы, лангобарды и итальянцы, а греки не слились с турками, как русские не слились с татарами… Даже на язык за три века турки не повлияли…
Эта мысль поразила Пушкина. Вот великая роль языка! Чтобы сохранить себя в порабощении, народ должен сохранить свой язык! Много ли татарских слов в русском языке? Он знал определенно: не более полусотни…
Говорили о султане Махмуде, об Али-паше, о подворьях афинских и греческих монастырях в Москве и Петербурге, о пожертвованиях в помощь грекам…
Но Никите Муравьеву не терпелось узнать: когда же наконец выйдет «История государства Российского»?
Этот стройный, подтянутый военный, с вьющимися волосами и с выражением мужественности и сосредоточенности на лице был одним из тех умных, о которых в последнее время так много говорилось в обществе. Он занимался военным делом, историей, статистикой, экономикой, педагогикой, а светскую болтовню считал потерей времени, дуэли и кутежи – пустой забавой.