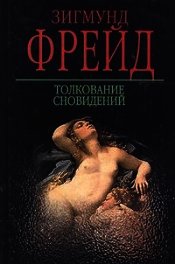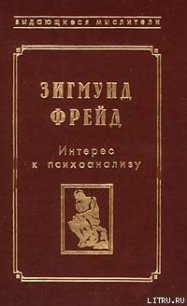Зигмунд Фрейд - Феррис Пол (прочитать книгу .txt) 📗
В то время они уже планировали начать там свой медовый месяц. Хольстентор — это две готические башни у ворот Хольстен. Если идти из Гамбурга, до моста в Любеке взгляду открываются два остроконечных купола над округлыми воротами. Фрейдист может увидеть в этом сексуальные символы, и именно так истолковывает этот сон Суэйлз. Хольстентор — это женщина, которая готова принять в свое лоно любимого. Фрейд мечтал о дефлорации невесты.
В этом толковании речь идет о строении, уже хорошо знакомом Фрейду. Раз он видел во сне Любек, почему бы ему не увидеть то, что он видел в этом городе раньше? Почему пара башен обязательно должна олицетворять груди Марты? Фрейдисты возразят, что здания и пейзажи довольно часто оказываются сексуальными символами. Фрейд сделал вывод, что двери и ворота представляют собой женские наружные половые органы, как и сады (те же «прекрасные сады» из его сна). Конечно, башни можно было причислить к символам женской груди, хотя яблоки и персики — более традиционные образы.
Эти загадки неразрешимы. Психоанализ во многом основывается на вере, а не на научных доказательствах. Подход Суэйлза к этому сну интересен, и даже нефрейдисту хочется представить себе Фрейда, мечтающего о первой брачной ночи в символах, которые ему только предстояло разгадать. Сложности символизма снов стали причиной появления целой мифологии. Фрейд всю свою жизнь строил предположения о символах женской груди и прочем. Фрейдистское толкование этого сна интереснее, хотя сам он не истолковывал этот сон. Оно как бы позволяет нам глубже заглянуть в душу этого странного человека.
Фрейду наверняка не понравилось бы такое вторжение в его личную жизнь. Еще большее негодование в нем бы вызвало то, что в последние годы он постепенно превратился из ученого и безупречного теоретика в старый памятник, побитый непогодой и шатающийся на своем постаменте. В ту ночь в Любеке, когда сон сбылся, он едва ли представлял себе, что его ждет и первое, и второе.
Глава 8. Тайная жизнь
Семейная жизнь Фрейдов началась в четырехкомнатной квартире на Рингштрассе, улице, которая кольцом окружала город. На ней располагались всевозможные учреждения — музеи, галереи, опера, правительство, — и иметь такой адрес считалось престижным. Квартира, которую Фрейд выбрал летом до свадьбы, находилась в новом доме в северо-восточной части улицы, возле биржи и старого портняжного квартала с внутренней стороны и довольно близко от медицинских институтов и городской больницы с внешней стороны авеню. Это был не самый модный, но очень приличный район. Сегодня на этом месте стоит полицейское управление. Когда я обратился к дежурному, тот ответил: «Зигмунд Фрейд? Не знаю, кто это такой».
В дом входили с параллельной улицы, Мария-Терезиенштрассе. Официально он назывался «Kaiserliches Stiftungshaus», Императорский мемориальный дом, и стоял на месте театра, который за пять лет до того загорелся во время представления и стал могилой для нескольких сотен человек «Многие утверждали, что купили билеты на это трагическое представление, но по какой-то причине не смогли прийти, а значит, их спасло чудо. Марта, ее брат Эли и сестра Фрейда Анна предположительно были среди этих немногих, избежавших смерти.». Этот дом называли Домом искупления, и такое прошлое отпугивало некоторых желающих там жить. Если поэтому квартирная плата была низкой, становится понятным, как Фрейд мог позволить себе такую квартиру. Сначала он едва сводил концы с концами. Ему пришлось заложить свои золотые часы, подарок от Эммануила, и даже золотые часы, которые он подарил Марте на свадьбу.
Главное было выжить, но до того, как окунуться в борьбу за существование, он вернулся к идеям, которые привез с собой из Парижа и надеялся развить в будущем. Поскольку за его поездку платил университет, Фрейд должен был представить доклад о своей работе. В октябре 1887 года Венское общество врачей встречалось в первый раз после летнего перерыва, и именно тогда Фрейд выступил с рассказом о мужской истерии.
Фрейд поступил не очень дипломатично. Он с энтузиазмом рассказал о работе Шарко и сообщил слушателям, что истерия — это заболевание, а не уловка симулянтов, а истерики встречаются гораздо чаще, чем полагает медицина. Венские врачи без восторга отнеслись к тому, что им приходится слушать какого-то посланца Шарко, и им уже было неважно, каких результатов он добился в Париже.
Фрейду был оказан холодный прием, хотя и не настолько, как он пишет в своей автобиографии. По его словам, на молодого новатора ополчились реакционеры от медицины. Так, он упоминает «старого хирурга» из Вены, который тогда упрекнул его, что Фрейд проигнорировал происхождение слова «истерия» от греческого «матка» и то, что эта болезнь может относиться только к женщинам. Если этот старец существовал на самом деле, его едва ли можно назвать типичным представителем венской медицины. Впрочем, чем сильнее Фрейд представлял оппозицию, тем легче ему было чувствовать себя героем, противостоящим обществу.
У него был и другой повод вспоминать то собрание с горечью. Париж вызвал у него новые идеи, в частности, то, что симптомы истерии соответствуют представлениям пациентов о строении их тела, а не действительным анатомическим фактам. В такой обстановке высказывать подобные эксцентричные гипотезы было невозможно, и Фрейду пришлось молчать об этом долгие годы. Возможно, он думал о том, что все это началось с того собрания, когда ему пришлось вместо настоящей гипотезы высказать более безопасную и неуклюжую историю. Конечно, гораздо приятнее винить в этом венских врачей, чем самого себя.
Итак, Фрейд снова приступил к работе. Но на этот раз она отличалась от «научной» медицины, которой он занимался под началом Брюкке и Мейнерта. Он все еще мог стать неврологом, специалистом по физическим болезням мозга и нервной системы. Для этого ему требовалось назначение в психиатрическо-неврологическую клинику университета, куда евреев брали неохотно. Ему предложили работать неполный рабочий день в институте детских заболеваний, и он согласился. Эта работа не была связана с университетом, не давала возможностей для проведения исследований и престижа, а это было необходимо для удачной частной практики по специальности. Несмотря на это, еще десять лет Фрейд занимался анатомией мозга и неврологическими заболеваниями и стал благодаря своим публикациям ведущим авторитетом по детским параличам. Он мог добиться успеха и в неврологии «Фрейд оставался неврологом даже после изобретения психоанализа. В молодости дирижер Бруно Вальтер обратился к нему с жалобой на судороги в правой руке. Он ожидал, что Фрейд начнет задавать ему вопросы о детских сексуальных отклонениях, но тот просто осмотрел его руку.». Но независимая практика в нечетко определенной области предоставляла больше возможностей для роста человеку с нетрадиционными идеями, чем место в центральном отделении университетской больницы.
Фрейда привлекала неопределенность «жалоб на нервы». В то время (как и сейчас) можно было неплохо заработать на заболеваниях такого рода. «Нервы» были в моде, в них видели причину любого незначительного расстройства с неизвестной причиной: усталости, головных болей, дрожания рук и других частей тела, запоров, бессонницы, потери аппетита. В своей автобиографии Фрейд вспоминает этих больных: «толпы невротиков, которые казались еще многочисленнее от того, что в отчаянии бросались от одного врача к другому, не находя облегчения». Он занимался ими со всей серьезностью — достойный молодой врач в темном, с аккуратной бородой, не лишенный чувства юмора.
Медицина относилась к невротикам практически как к малым детям. В учебниках типичные пациенты описывались довольно ненаучно: вот, например, нервная женщина, «страдающая худобой и малокровием… Чтение утомляет ее, игра на фортепиано утомляет ее. Она устает даже от еды и разговора. В такой сонной монотонности проходит вся ее жизнь».