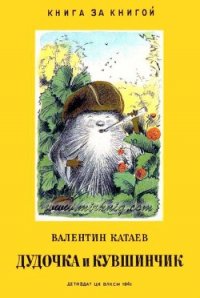Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона - Катаев Валентин Петрович (книги онлайн txt) 📗
Глава семьи Кирьяков, акцизный чиновник, сидел в малороссийской рубахе на террасе и набивал гильзы табаком, складывая готовые папиросы в фанерную коробку из-под сигар, и не обратил на нас никакого внимания; затем появился разморенный послеобеденным зноем мальчик в матроске, его сын Геннадий, долговязый подросток моих лет, и, узнав, в чем дело, тут же предложил повести нас «на самые плавни» и показать лодку одного рыбака, собиравшегося ее продавать.
Рыбака мы не застали на месте, но увидели лодку, задвинутую в густые камыши; лодка напоминала длинный черный открытый ящик, на треть полный тяжелой болотной воды, в которой плавал такой же черный дряхлый черпак с короткой ручкой.
Мы откачали воду, и Геннадий, взяв в руки длинный, серый от времени шест, стал возить нас по неподвижным водяным коридорам среди темно-зеленых, очень высоких, сплошных стен еще не поспевшего камыша со светло-зелеными метелками, на которых сидели синеглазые стрекозы.
…в зеркальных коридорах плавней отражалось вечереющее небо с розовыми, нежными облаками, а по неподвижной воде быстро бегали на своих высоких ножках водяные пауки, оставляя за собой легкие концентрические круги, долго державшиеся на поверхности. Забыв, для чего я сюда приехал, я погрузился в неведомый мне до сих пор мир плавней, и лодка наша плыла, временами раздвигая своими боками сабельноострые стебли рогозы и заставляя колебаться на поверхности воды овальные листья белых водяных лилий — ненюфар, — цветы которых уже закрывались на ночь и покачивались белоснежными шариками с кое-где проступавшей яичной желтизной тычинок. И все это вместе с сумраком, гнездившимся в непроницаемых стенах камыша, вместе с тишиной, болотисто-пресным запахом речной воды, особо острым ароматом рогозы, ила и, может быть, каких-то ночных болотных цветов, источавших тонкую, смертельную отраву, околдовало меня…
Покатавшись вдоволь по плавням, мы задвинули лодку в камыши и вернулись к Кирьяковым, так и не повидав владельца посудины. Пришлось дожидаться следующего дня, но и на следующий день рыбак не показался, а где он жил, никто не знал. Таким образом, мы прогостили у Кирьяковых несколько дней, которые сейчас — через шестьдесят лет — представляются мне каким-то упоительным сном, легким, бездумным и в то же время полным неизвестно откуда взявшимся любовным томлением, страстными «поэтическими грезами», потерей ощущения времени, слившегося в какой-то один нескончаемый июльский полдень — жгучий, одуряющий, — внезапно бьющий откуда-то снизу, сбоку, как бы исподтишка зеркальными отражениями плавней.
Сонная одурь охватила мою душу, лишила меня воли, я забыл обо всем на свете и наслаждался простым, бессмысленным счастьем своего существования на земле, как, вероятно, наслаждались своим коротким бытием роскошные бабочки «адмиралы», синеглазые четверокрылые стрекозы, уцепившиеся лапками за лист камыша и загибающие свой вялый коленчатый хвост, как бы сделанный из бирюзового бисера, или же как уж, извилисто скользящий в почти горячей неподвижной воде, в глубине которой дымчатыми облачками вставал ил, потревоженный какой-нибудь подводной тварью, так же бессмысленно наслаждающейся жизнью, как и я.
…это было нечто вроде приятного и продолжительного теплового удара, лишившего меня понимания — кто я? зачем я? где я?…
Семейство Кирьяковых смотрело на пребывание в их доме двух неизвестно откуда взявшихся мальчиков с терпеливой деликатностью, и лишь однажды мадам
Кирьякова спросила как бы невзначай утомленным голосом:
— А ваши родители знают, где вы пропадаете?
На что Юрка не мигнув глазом соврал, что наши родители ничего не имеют против нашей поездки в Николаев, даже, напротив, очень рады, что мы расширим свой кругозор, посетив такой знаменитый новороссийский город, известный своими корабельными верфями и многим другим.
Не без чувства неловкости садились мы вместе со всей семьей Кирьяковых за завтрак, обед и ужин, предварительно долго отказываясь и клянясь всеми святыми, что мы совершенно сыты, что не мешало нам за обедом наворачивать вкусный борщ и голубцы в сметане, которые замечательно готовила мадам Кирьякова с помощью своей дочки, маленькой скучной девочки с бесцветными льняными волосами, подобранными круглой целлулоидной гребенкой из числа тех, какие носили воспитанницы епархиальных училищ и сиротских приютов. Эта девочка была хоть и недурна собой, но так скромна, молчалива, незаметна, а главное скучна, что я даже не обратил на нее внимания, и в моей памяти она так и осталась девочкой без имени, в ситцевом платье, имевшей привычку почесывать одну пыльную босую ножку другой пыльной босой ножкой.
Она осталась в памяти, как те болотные пыльно-голубые цветы, во множестве растущие возле камышей, названия которых я не знал, а про себя называл «голубоглазые-болотные», так скромно украшавшие природу здешнего раскаленного полудня!
Мы ложились спать на террасе и сквозь листья дикого винограда видели бледное звездное небо, изнемогающее от зноя, не проходившего даже ночью и лишь немного смягчающегося перед рассветом, когда, вдруг зашумев камышами, из плавней прилетал ветерок, уже не ночной, но еще и не утренний, а какой-то нездешний, звездный…
…предрассветный…
На террасу выходило одно из окон дома, из комнаты, где семья Кирьяковых выкармливала шелковичных червей. Мы слышали их неутомимое шевеление в ситах, куда для них клали свежие листья шелковицы, которыми они питались. Там же — в этой пустой беленой комнате — хранились уже готовые коконы, мертвые, ошпаренные кипятком. Кирьяковы продавали эти коконы на шелкомотальную фабрику, что было для семьи известным приработком, так же как набивка папирос, чем занимался — как мы уже заметили — в свободное от службы время глава семьи, сам не курящий, по заказу табачного магазина. Семья водила птицу и свиней; по двору, испятнанному раздавленной кроваво-красной шелковицей, бегали цесарки, индюшки. Имелись две коровы. Словом, семья была на редкость трудолюбивая, и мы с Юркой чувствовали себя бездельниками и дармоедами.
Однако это не мешало нам наслаждаться упоительными июльскими днями в этом глухом уголке необъятной Российской империи, уголке ни на что не похожем, как будто бы мы заехали в совсем незнакомую страну, в дельту какой-то сказочной реки, страну с аистами на крышах и белыми лилиями, сплошь покрывавшими стоячую воду плавней, где во тьме у самых корней камыша росли рогатые водяные орешки, похожие на маленьких пузатых чертенят, и куда уходили скользкие и прочные плети лилий, качающихся наверху, на своих овальных листьях, сплошь покрывавших поверхность воды, напоминая плавающие палитры с густо выдавленными на них толстыми звездами белил и хрома, почти обесцвеченных подымавшимися горячими испарениями болотной воды.
…это было задолго до того, когда я впервые увидел «ненюфары» Клода Монэ в Лондоне…
С утра до вечера мы плавали в своем корыте среди камышей, таких высоких, что небо над протоками плавней виднелось лишь как узкая бледно-синяя щель с редкими белоснежными июльскими облаками. Мы раздевались и, раздевшись, плавали вокруг нашего черного ковша в теплой, почти горячей воде, рвали лилии, ныряли на дно, где дымился потревоженный ил, и всюду нас окружала таинственная жизнь болотного мира:
…почему-то вызывали отвращение жуки-плавунцы. У них было всего две лапки; казалось, что остальные лапки у них оторвали и они превратились в калек. Они гребля этими двумя лапками как веслами, были очень неприятного черного цвета и при каждом прикосновении выпускали какую-то белую вонючую жидкость, от которой склеивались пальцы, и потом их трудно было отмыть, уничтожить тошнотворный запах жука-плавунца…
Быстрые водяные змейки… жирненькие каплеобразные запятые головастиков; в них уже намечалось, просвечивало нечто лягушечье: глаз? щечка?… Мальки… какие-то болотные ракушки, открывающие и закрывающие свои створки… Черви…