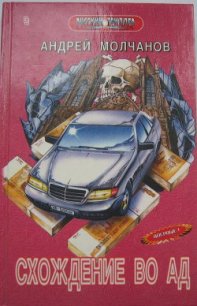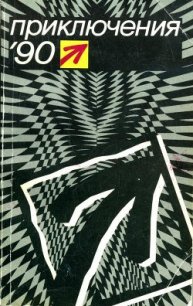Начнем с Высоцкого, или Путешествие в СССР… - Молчанов Андрей Алексеевич (книга бесплатный формат .txt, .fb2) 📗
— Что не понравилось в повести? — вежливо вопросил я.
— Вы пишете с позиции нашего классового врага, — прозвучал ответ. — И я чувствую в вас этого классового врага! Вы не любите нашу страну и наш социалистический строй!
— Давайте разделим страну и строй, — сказал я. — Две разные категории.
— Может, еще разделить народ и партию? — последовал вопрос.
— Это — как вам будет угодно, — ответил я. — Но ваша идея наталкивает на размышления.
Я дерзил, поскольку свой «трояк» по марксистко-ленинской философии на госэкзамене уже заработал, и переправить его на «неуд.» идейная барышня уже не могла. Ни к стране, ни к строю ненависти я не испытывал, хотя строй вызывал большие сомнения, но вот та порода, из которой эта дамочка произросла, явно не соответствовала моим корням. И ее глодало не то подспудное осознание ущербности своей, не то зависти. В роду у меня были священнослужители, дворяне, а дед мой — Зыков Михаил Александрович, в Первую мировую стал георгиевским кавалером, получив орден из рук царя, а далее, уже во Вторую мировую, отличился, выйдя из окружения и вынеся, обмотав им свое израненное тело, знамя своего погибшего полка. Его представили к званию Героя, но в инстанциях отказали, заменив «Золотую звезду» на орден Отечественной войны первой степени. А все из-за пробела в биографии: в Гражданскую войну георгиевский кавалер, по его утверждениям, перебивался случайными заработками, не подтвержденными документально, а потому у ответственных товарищей возникали подозрения: а уж не воевал ли герой в свое время на стороне белой гвардии? Да и в партию, несмотря на увещевания красных командиров, вступать не торопился… В общем, пролетел дед со звездой Героя, как НЛО над Парижем. Хотя героем был. И до сих пор помнится из детства:
— Дед, у тебя кровь из рукава течет…
— А, так это я осколок вытащил сегодня. Они то и дело из меня лезут. Маленькие, корявые, но вот засели, как паразиты, по всему организму… Я к ним — как к занозам… Подковырнул, вытащил. Привык уже.
В аудитории, куда мы зашли с дамой, уже восседали члены комиссии, и первым слово взял проректор, рукопись не читавший, но пробежавший взором по рецензиям. Вкратце суть рецензий перепев и, назвав меня студентом во всех смыслах выдающимся, передал эстафету моему творческому руководителю Володе Амлинскому.
Но тут в дело встряла апологетша научного марксизма, заявив:
— Прошу меня выслушать, товарищи! Случайно, но я прочла повесть Молчанова. Она ужасна! Ни одного положительного героя! Вскрываются теневые аспекты нашей жизни! А наша жизнь между тем…
— Между тем, — перебил ее Амлинский, — наличие теневых аспектов вы признаете. И наша советская литература обязана беспощадно вскрывать их, в чем состоит ее созидающая задача.
— В этих, как вы утверждаете отрицательных персонажах, — вступил в разговор Сергей Антонов, он же — председатель выпускной комиссии, — я увидел стремление персонажей освободиться от греховности своего существования, покончить с ним… Это один из основных лейтмотивов… Считаю, что перед нами — зрелый, состоявшийся писатель, чья дипломная работа заслуживает оценки «отлично».
Спорить с Антоновым — лауреатом всевозможных премий, фронтовиком, имевшим большой вес в писательской начальственной среде, автором знаменитых фильмов, равно, впрочем, как и с секретарем Союза писателей Амлинским, у дамы не хватило запала.
— Что же, вам виднее, товарищи, — ледяным тоном подытожила она и вышла из аудитории. Захлопнулась дверь, и из-за нее донесся прощальный беспомощный всхлип моего несостоявшегося критика. — Какое безобразие! Кого они продвигают в советские писатели! Откровенную диссидентуру!
Спустя несколько лет я предложил свой разнесчастный «Перекресток» для издания чехам, публиковавшим меня огромными тиражами, но и тут нарвался на какого-то идейного рецензента, заявившего, что повесть для чешского народа вредна, а с таких, как Молчанов, «начинается Польша». В Польше в данный момент зрели протестные настроения, и решался вопрос о введении к нашему соседу по соцлагерю дополнительных войск к уже имеющимся на ее территории.
Каждая моя поездка в Чехословакию была праздником. Из нищей серой Москвы я приезжал в цветущее великолепие Праги с ее чистотой, магнолиями, кустами «солнечного дождя», вскипавшими весной мелкими желтыми цветами, мощеными улочками старого города, россыпью бистро, ресторанов и пивным качественным изобилием, поневоле сравниваемым с кислой бурдой отечественного «жигулевского», за которым народ давился в очередях, сдавая ящиками израсходованные мутные бутылки.
Мой тесть работал в Праге представителем АПН (Агентство печати «Новости»), контора размещалась в старой вилле в тихом зеленом районе на улице Италская, то бишь Итальянская; в представительстве постоянно толклась куча народа из местной правительственной, партийной и пропагандистской знати; в этих стенах безраздельно царила та же самая знакомая мне номенклатурно-коммунистическая идеология с явным запашком сталинизма; двое редакторов являлись штатными сотрудниками КГБ и ГРУ, причем, сидели они в одном кабинете, наслаждаясь обществом друг друга; а за оградой виллы существовала иная, реальная жизнь, и погружение в нее приносило мне каждодневные озадачивающие открытия…
Чехи, на мой взгляд, жили куда как сытнее, ярче и свободнее, чем наши совдеповские массы. В магазинах — изобилие, нигде никаких очередей, символическая плата за жилье, дешевый бензин, потоком льющийся сюда из СССР, свободные поездки на Запад, бесплатное образование и медицина и — затаенное недовольство вкупе с ненавистью к власти, насаженной русскими оккупантами.
Мои вольнодумные сочинения были близки местным редакторам, подвывающим в бессилии от той советской литературной мертвечины, что им приходилось издавать по распоряжениям сверху, а тут — вроде бы, официально признанный автор, почему бы не разбавить свежей водой заплесневелое болото никем не читаемой бурды?
Советских авторов, печатавшихся за границей, нещадно обдирало московское Агентство по авторским правам, забирая себе львиную часть гонораров, но и тут, словно в отместку враждебным силам коммунистической власти, мои редакторы провели причитающиеся мне деньги без уведомления надзирающих инстанций, как внутренние расчеты. И мы славно на эти расчеты гуляли в дымных кабачках старого города. И особенно — в моем любимом: «У трех кошек», неподалеку от Карловова моста.
Мои редакторы и переводчик познакомили меня с представителями богемы, в частности, с популярным писателем Йозефом Климой, жившем в своем доме в пригороде Праги, куда я был приглашен на обед. Приехал я на часок, а задержался едва ли не на неделю.
Стояли последние дни апреля, сады кипели цветением яблонь, вишен и слив, малахит молодой зелени застил холмистые берега реки, огибающей поселок, местный народ готовился к празднику костров, возводя на лугу возле воды вигвамы из вырубленного сухостоя и веток, в синем воздухе витала музыка и хохот, неподалеку высился древний готический замок, а степенный дружелюбный Йозеф, водя меня по мощеным улочкам, рассказывал о родном поселении с историей его домов и закуточков.
— Раньше, — указывал на здание местной гостиницы с располагавшейся на первом этаже пивной, — это строение принадлежало моему дедушке, а до него — его отцу. Так вот прадедушкой обнаружился при строительстве родник. И он не только использовал его как источник воды, но пропустил через него трубу, чтобы пиво из подвала охлаждалось, поднимаясь наверх к стойке…
— Так эта пивная тоже была его?
— Да. Но после войны ее конфисковали коммунисты. Вместе с родником. Теперь я хожу туда пить государственное пиво за личные деньги.
— Мне тоже есть, чем похвастаться, — сказал я. — У моего прадеда было пять доходных домов в Санкт-Петербурге, на Невском проспекте. Так что мы можем гордиться вкладом предков в общенародное достояние. Правда, вклад осуществили большевики, руководствуясь своим основополагающим принципом: чужого нам не надо, а вот свое возьмем, кому бы оно ни принадлежало!