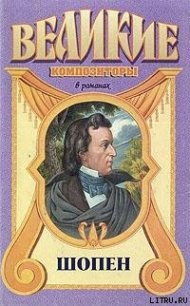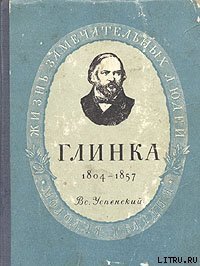Пять портретов - Оржеховская Фаина Марковна (книги бесплатно без регистрации полные .TXT) 📗
Он уже боялся этого спада, чувствовал его близость и оттого медлил возвращаться домой. Природа помогала ему отдалить наступление тревоги, которая – он знал это,– начавшись, не оставит его, пока не истерзает, как болезнь. Еще оставаться на воле, дышать всей грудью – и верить.
И он шел домой кружным путем.
3
Дома его ждало письмо от инспектора Мариинского театра! оперу можно будет поставить еще в этом году.
Теперь следует налечь на инструментовку и «уписывать» партитуру, как любил говорить Глинка.
Это приятная работа. Но еще предстоят разговоры с дирекцией, встречи с артистами и неизбежно связанные с этим терзания, потому что исполнение никогда не соответствует задуманному.
Но что значило это все по сравнению с будущим, с ужасом премьеры, когда наступит встреча с неизвестными людьми… Чайковский уже предчувствовал это.
Он не думал об успехе, да и не все ли равно, успех или неуспех, если он сам может произнести свой суд? Он уже произнес его, но сможет ли он остаться твердым в самые решающие часы?
Его радость померкла, стены давили. Если даже признать совершенство оперы, то как велика разница между нею и человеком, создавшим ее! Потому что он не любил себя в те часы, когда не работал. Он казался себе тогда таким слабым, несвободным. В том, что уже сделано, он находил оправдание прошедшему, но не будущему. Спасти его от ничтожества, от небытия может только следующая симфония, или опера, или что бог пошлет.
Он был чужд самодовольства: ощущение неисполненного долга сопровождало всю его жизнь, но это не было тягостное чувство, в нем заключался смысл жизни. Не только самоуспокоенности, он не знал и просто покоя в своей постоянной жажде творчества; сбросив с плеч одну громадную тяжесть, он уже тосковал по новой…
Вечером он вышел в сад. Было совсем тепло, но душно. На небе ни одной звезды.
Он силился вспомнить что-то полузабытое, о чем недавно думал. Да, слова Лароша: «Хотел бы я знать, где начало этой «Пиковой дамы»?»
В самом деле, когда это началось? Когда он впервые остро постиг нераздельность тьмы и света, скорби и утешения? Не чередование их, а именно неразделимость? Когда он почувствовал, что есть в жизни трагическое, проникся этим и тут же уверовал, что мрак не побеждает, не может победить.
Когда же это было? В юности? Или еще раньше – в детстве, которое он называл своим золотым веком? Такой ли уж золотой? Нет, это началось раньше, гораздо раньше.
4
…Откуда, как разлад возник?
Если бы можно было описать то время, которое не помнишь! Душевное состояние очень маленького ребенка, может быть даже грудного. Душевное! Взрослые (кроме матери) уверены, что у такого еще нет души, а есть только барахтающееся тельце, которое нуждается в тепле, хорошем уходе, правильном кормлении. Но матери знают, угадывают другое и как только могут утешают. Потому что утешение необходимо.
Ночь. Стихийный ужас темноты. Неподвижность среди безмолвия, стало быть беспомощность и одиночество.
Ему казалось, он помнит. Й колыхание занавески, и затаенную тишину комнаты, и тени на стене, и что-то притаившееся в углу. И какие-то низкие звуки (теперь он знал, что – фагота), поднимающиеся из земли и в землю уходящие. И чьи-то шаги за стеной.
Но более всего он помнил свой страх.
Сначала он ждал, не утихнут ли эти звуки. Но они становились все более угрожающими. Что-то огромное и неведомое близилось к нему… Но вот раздавались шаги – ин те, которых он боялся, а легкие, торопливые, живые… Самое спасение шло к нему, и, когда она подходила и касалась его нежнейшими на свете руками, он кричал и захлебывался еще сильнее, но это был уже крик радости и в то же время гнева: «Где ты была? Как ты могла меня оставить?»
И когда она брала его на руки, он еще косился на оконную занавеску, которая постепенно переставала колыхаться. А низкие звуки фагота уже уходили в землю, тишина посветлела и ожила. Тогда между ним и ею начинался разговор. Его сердитый, укоряющий голос переходил в жалобу, всхлипывания и наконец умиротворенно стихал, а ее голос, сначала тревожный, становился все ласковее и спокойнее, так что измученный человечек умолкал совершенно утешенный.
О чем они говорили? Обо всем. Но содержание разговора сводилось к одному: «Ты не уйдешь больше?…» А потом приходил покой.
Да, великий покой, блаженный. Она отгоняла все призраки, они исчезали, а она бодрствовала.
И тогда вступали скрипки (теперь он знал, что именно они). Недолго раздавалось их пение, потому что у радости такой скорый конец, но целый мир, певучий мир добра, умещался в этом коротком сроке.
Утомленный всем пережитым, он не слыхал, как она опять укладывала его, спускала с рук, стало быть отдалялась. Он только помнил, как стихала песня, и оттого он засыпал.
Утром, открыв глаза, он вновь видел ее перед собой и уже ничего не помнил и смеялся. Но через какое-то время властительный страх брал в плен его тело и душу, и он отбивался от теней и зловещих звуков, звал на помощь, изнемогал, пока спасение не являлось снова.
Он вовсе не был болен в те ночи, но слишком чувствителен, слишком человек.
…Где же ты, где же ты теперь? Я один в этой темной казарме, призраки обступают меня со всех сторон. Я слышу шаги, но это не твои, а те, которых я боюсь. А тебя нет, что же мне делать?
…Запечатлеть все это. Выразить как умеешь – музыкой. Если удастся, ты спасен. Но – удалось ли?
5
Ему было четыре года, когда гувернантка Фанни Дюрбах пришла к ним в дом.
Она окончила один из лучших пансионов, имела хорошие рекомендации. Ей уже приходилось жить в России, но одно дело Петербург, другое – даль, глушь… Она была очень молода и собиралась в путь со страхом. Что ждет ее в далеком Воткинске? Тоска, вечный снег, безлюдье, зависимость… И, чтобы не заметили ее страха, решила на первых порах быть холодной, даже официальной. Но хозяйка дома угадала, что происходит в душе у молодой девушки, и приласкала ее.
Госпожа Чайковская тоже была французского происхождения, урожденная мадемуазель Ассиер. У нее был грудной голос, темные задумчивые глаза и руки удивительной красоты.
Она сама привезла Фанни в Воткинск и в дороге успела внушить ей доверие.
Хозяин дома, представительный, грузный, в прошлом военный, был лет на двадцать старше жены. Его дочь от первого брака Зина и племянница Лида, жившая в доме на правах дочери, были старшими детьми. Остальные четверо – совсем малы: старшему мальчику исполнилось шесть лет.
Начальник большого завода, всегда занятой, Илья Петрович Чайковский не вмешивался в домашние дела, во всем полагаясь на жену, перед которой явно благоговел.
Шутливо, но тоже по-доброму он приветствовал Фанни, и она скоро почувствовала себя в доме, как в родной семье. Об этом она и писала своей сестре: «Как несправедливы слухи о русских! Эти люди так добры. А природа! Какие здесь закаты! Что же касается моих питомцев, то я ими довольна: старшие девицы рассудительны и прилежны, с мальчиками несколько труднее».
Это не относилось к Nicolas. Он был прелестный ребенок, очень развитой для своих лет, послушный, внимательный ко всем и такой красивый. Трудности доставлял младший, Пьер, хотя и в нем было обаяние. Он не сразу поддавался внушению; то задумчивый и рассеянный, то подвижный и веселый, он был доверчив, но вспыльчив и упрям. Много усилий нужно было затратить, чтобы внести покой в эту смятенную душу.
Такими видела их Фанни. Шестилетний Коля действительно был аккуратный, вежливый, но она не подозревала, что он уже по-своему приспособился к жизни. Слишком рано он понял, каким надо казаться, чтобы всем нравиться и никого не огорчать. А в душе уже кое-что скрывал.
При своем счастливом характере он умел отгонять то, что его тяготило. И впоследствии Коля тоже выходил победителем из любого затруднения. Он, например, принадлежал к тем ученикам, которые умеют отвечать на уроке или на экзамене независимо от того, как они знают предмет. Конечно, Коля все знал, но отвечал он всегда лучше, чем готовился. А другие отвечали хуже, чем знали.