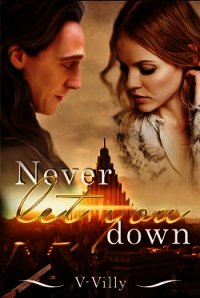Путеводитель по оркестру и его задворкам - Зисман Владимир Александрович (читать книги без регистрации полные .TXT) 📗
Следующий день был выходным. Принимающая сторона организовала экскурсию на крокодилью ферму. Неподалеку.
При свете дня все выглядело несколько иначе.
Но узнаваемо.
После концерта в гостинице. Шум драки в номере. Вваливаются коллеги выяснять и разнимать. Внутри один другого трясет за грудки с воплем: «Вспоминай, сволочь!»
Выясняется, что перед концертом один из них поставил бутылку водки в сейф от греха подальше, а теперь не может вспомнить код.
Госоркестр светлановских времен. Гастроли. Валторнист еще в пути совершает серьезную ошибку по части дозы. До такой степени, что на следующий день назначается собрание худсовета. Дело пахнет керосином.
Утро следующего дня. Вокруг отеля в ожидании появления Светланова в тренировочном костюме нарезает круги тот самый вчерашний валторнист, на бегу: «Доброе утро, Евгений Федорович» появившемуся маэстро, убегает в отель и там уже, видимо без сознания, падает замертво, как тот первый марафонец.
Когда Светланову сообщили о худсовете, на котором будут рассматривать поведение и т. д., он сказал: «Вы что, с ума сошли? Человек спортом занимается, а вы тут на него…»
Рождественские гастроли по Америке с балетом «Щелкунчик». Месяц по разным городам, в некоторых по два спектакля в день. И вот за пять минут до погружения в оркестровую яму выясняется, что пропал тромбонист. Вроде только что видели. Поискали-поискали и нашли здесь же, в комнате. На полу. Под занавеской. Когда успел, непонятно. Те, кто его давно знал, всех успокоили. Сказали, что если его удастся загрузить в яму, то все остальное будет нормально.
А какая там яма-то? Кусочек зала, отделенный от зрителей кладбищенской оградкой. Ну, перевалили его через оградку. И это было самым трудным. Потому что сам спектакль прошел как по маслу.
Другой товарищ, игравший примерно таким же образом в оркестре Дударовой, тоже долгие годы не вызывал нареканий. Спалился на ерунде, совершенно случайно и не по своей вине, кстати говоря. Обычно перед концертом коллеги привязывали его к стулу, чтобы не упал. А тут перед антрактом забыли отвязать.
Сейчас уж нет той романтики…
О нотах
Я полагаю, вы уже заметили общий принцип оркестровой деятельности: куда ни плюнь, все устроено по-дурацки, неудобно, коряво, избыточно по всем параметрам и т. д. Особенно, конечно, это заметно в конструкции и применении музыкальных инструментов. Но и в прочих сферах оркестровой жизни системная идеология организована так же бестолково. Это, по-видимому, печальный результат нескольких факторов. Во-первых, конечно, тернистый исторический путь и тяжелое наследие мрачного Средневековья, когда в конструкции практически всех музыкальных инструментов видна тяжелая рука инквизиции. Это вам подтвердит любой ребенок, осваивающий музыкальные азы. Во-вторых, эволюция процессов в этой области носила глубоко экспансионистский характер и за какие-нибудь триста лет прошла путь от оркестра в десять — пятнадцать человек с тихими и мягкими виолами и шалмеями до безумной толпы Men in black на сцене, количественно заметно превосходящей роту. И это не считая хора такого же размера, группы голосистых солистов и дирижера, который уже не играет, как в былые времена, на клавесине или на скрипке, а становится фигурой кинг-конговского масштаба. (Я же говорил, и не раз, что гигантомания погубила динозавров. Или это не я говорил?)
И третье. Нельзя было оставлять разработку системы в руках творческой интеллигенции: эти люди неспособны даже шнурки на ботинках завязать. И что мы теперь имеем? Нет, мы, конечно, привыкли и не жалуемся. Но если взглянуть на вопрос непредвзято…
Итак, поговорим о нотах в оркестре и пойдем в этой беседе дедуктивным путем, то есть от общего к частному.
На дирижерском пульте лежит партитура. В ней выписаны партии всех инструментов, занятых в данном произведении. Количество строчек удается снизить до некоторого минимума по сравнению с количеством музыкантов, потому что струнные инструменты в пределах своей группы, как правило, играют одни и те же ноты. Таким образом, группа струнных занимает в партитуре нижние пять строк (I и II скрипки, альты, виолончели и контрабасы). Духовые, столь же неэффективно одноголосные инструменты, попарно вписываются в одну строчку: две флейты, два гобоя и т. д. Родственные инструменты в каждой группе, как функционально сольные, имеют свои персональные строки. Это пиколка, рожок, кларнет in Es, бас-кларнет, контрафагот и кто там есть еще. Трубы, тромбоны, туба — как пойдет, в зависимости от ситуации. А вот четырехглавым валторнам требуются две строки. Полноценные строчки для литавр и, к примеру, ксилофона и отдельно выписанная незвуковысотная мелочовка вроде барабана, треугольника, кастаньет и всего остального, что придумал композитор. Вплоть до тарелок и тамтама. И две строки для арфы, которые забивают предпоследний гвоздь в мозг дирижера. Потому что все партии находятся одна под другой и синхронизируются во времени тактовыми чертами. А стало быть, количество тактов, поместившихся на странице, определяется инструментом, у которого наибольшее количество нот в такте. Если вы вспомните, чем обычно занимается арфистка между периодами чтения или вязания на спицах, то поймете, что все ее арпеджио приводят к крайне неэкономному использованию нотной бумаги в партитуре в целом. В результате, поскольку из-за арфистки на странице помещается всего несколько тактов, значительная часть интеллектуальных и творческих ресурсов дирижера уходит на перелистывание страниц. Но даже и без нее весело резвящиеся скрипачи и виолончелисты (альтисты и контрабасы малость поспокойнее) достаточно активно способствуют этому деструктивному процессу.
Если вы озадачите себя пересчетом строчек в жирненьких партитурах Вагнера, Равеля или Рихарда Штрауса, то легко перевалите за два десятка. А если это что-нибудь вроде реквиема или симфоний с хором и солистами типа Девятой Бетховена, Второй Малера и др., я уже не говорю про оперу, то можно смело добавить четыре строки для хора. И по одной — на солиста (а сколько их, скажем, в секстете из «Золушки» Россини, можно только догадываться).
В этой книге вы еще не раз натолкнетесь на мои изумленно-раздраженные реплики в адрес идиотской системы записи транспонирующих инструментов. Так вот, в партитуре весь этот бред предстает перед глазами маэстро во всей своей красе и роскоши. Флейта-пикколо звучит на октаву выше, чем написано в нотах. Контрабасы и контрафагот — на октаву ниже. Это цветочки. У труб написанная в партитуре нота до звучит как си-бемоль, у рожка — как фа, у кларнетов — как си-бемоль или ля, у бас-кларнета — как ми-бемоль, а у валторн может прозвучать вообще почти любая. При этом две валторны могут быть йотированы в одном строе, а две в другом. Это, конечно, обозначено в партитуре, но мне почему-то кажется, что подобная запись приводит к некоторому дискомфорту при ознакомлении с ней. Само собой разумеется, что и остальные ноты также находятся не на своих местах, что означает (поверьте мне на слово), что все эти инструменты, как следствие вышеописанного маразма, выписаны в разных тональностях. И, соответственно, при ключах в разных строчках написаны диезы и бемоли в самых причудливых вариантах. Кстати, о ключах. Альты по умолчанию играют (пардон за тавтологию) в альтовом ключе, а фаготы и виолончели иногда для удобства (ха-ха) йотируются в теноровом.
Справедливости ради надо сказать, что истории музыки известен один нормальный человек, который писал партитуры, руководствуясь здравым смыслом. Это С. С. Прокофьев. «Однажды Черепнин дал мне приготовить партитуру Берлиоза, — писал Прокофьев в “Автобиографии”, — в которой все медные были в разных строях. Я замучился, добираясь до истины (расшифровываешь аккорд три минуты, а оказывается, это чистый до мажор). Я покончил с этим предрассудком. <…> Дирижер воспринимает музыку как она звучит, то есть in C, стало быть, в партитуре все инструменты так in C и должны быть написаны». Прокофьев сказал — Прокофьев сделал. Жаль, не прижилось…