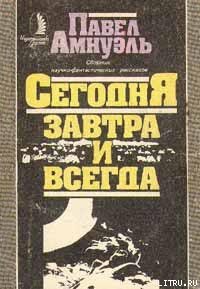Северная столица - Дугин Лев Исидорович (бесплатная библиотека электронных книг .TXT) 📗
Комната больного произвела на него удручающее впечатление. Комната обставлена была бедно. Кровать – в виде дивана, с валиками в головах и ногах, – была старая, расшатанная; из рваного сафьянового матраса вылезал конский волос. И почему над диваном нет ковра?.. Можно ли терпеть такие занавески и такие обои?.. И сам молодой поэт был худ, с бледным, заострившимся лицом…
Карамзин посмотрел книги, лежавшие вокруг: Вольтер, Монтескье, Бенжамен Констан, Руссо – все французы.
– Но к чему пришли во Франции? – сказал он. – К ужасам революции. Поверь мне, я был во Франции: благословенны страны, не знающие этого ужаса… И я думаю о благе России!.. Вот ты следуешь за Монтескье: нужен твердый закон. Но ведь где обязанность – там и закон. И монарх уже по обязанности блюдет счастье народное…
– Вы говорите о законе нравственном, – возразил Пушкин. – И его исполнение оставляется на произвол каждого… А законы должны быть для всех обязательны и ограждаться страхом наказания…
– Поверь, я сам истинный поборник конституции, – убеждал Карамзин. Он показал на орденский знак на своем фраке. – Неужто ты думаешь, мне это нужно?
Все же обида у Пушкина постепенно проходила. Все же этот человек слишком много для него значил.
В комнату вбежал взволнованный Сергей Львович. Только что узнал он, что почтеннейший, высокоуважаемый, дорогой Николай Михайлович здесь!.. Помнит ли он, как некогда в Москве… Ах, Москва! Дом, в котором Карамзин жил на Большой Дмитровке, сгорел. И дом, в котором Пушкины жили у Яузского моста, сгорел… Ах, Москва! И сейчас бы все бросить и вернуться в Москву…
Потом заговорили об «Истории». Когда выйдет «История»? Вот что хотел бы знать Сергей Львович: поместил ли Карамзин всю родословную Пушкиных: вспомнил ли о Василии Алексеевиче Пушкине, который послан был к Казанскому царю, и о Матвее Степановиче Пушкине, воеводе, противнике Петра, и о новгородских Пушкиных, и о младшей линии Пушкиных от Константина Григорьевича…
Карамзин вскоре откланялся.
Но в конце февраля он вновь вторгся в комнату Пушкина – на этот раз с восемью пахнущими типографской краской томиками «Истории государства Российского» – аккуратными, небольшими, в одинаковых обложках… Вот он, великий труд, которого с таким нетерпением ожидал каждый грамотный русский. Вот она, история России!.. Но уже первая фраза предисловия вызвала у Пушкина протест: «История народов принадлежит царям…» Да, он знал монархическую приверженность Карамзина. Но у него самого образ мышления был иной! И, схватив перо, он написал эпиграмму:
В его «Истории» изящность, простота Доказывает нам, без всякого пристрастья, Необходимость самовластья И прелести кнута.
А потом погрузился в чтение. Какой великий труд! Да, Карамзин – первый писатель: прозаик, историк, критик, издатель – целая эпоха! Он совершил подвиг! Творение его необъятно…
Все же выздоровление после тяжелой, смертельной болезни затянулось на долгие месяцы. Проводя целые дни дома, он мог наблюдать жизнь своей семьи.
Сергей Львович поднимался сравнительно рано, камердинер Никита Тимофеевич требовал для барина кофий; во дворе запрягали лошадей – после кофия Сергей Львович отправлялся на утренние визиты… Начиналась суета, но ходили на цыпочках, говорили шепотом: Надежда Осиповна еще спала.
Ольга слала брату записки. Вместе с ней в его комнату вплывало какое-то облако неудовлетворенных исканий, несбывшихся надежд, незавершенных порывов… Она клонила голову на тонкой, длинной шее, и ее глаза – прекрасные, темные глаза – смотрели грустно… Да, ее несчастный роман непоправимо окончился.
Наконец барыня, Надежда Осиповна, вставала…
Громче слышались голоса слуг, топот ног. Теперь топили печи, протирали окна, чистили ковры спитым чаем, натирали мебель спиртом с растопленным воском и лавандовым маслом; Надежда Осиповна отдавала распоряжения по хозяйству; вся семья собиралась за завтраком.
Разговоры о здоровье, о спектакле в Эрмитажном театре, или крестинах, или именинах, или свадьбах, долгие рассказы о ночных снах, новости о графе Б. или княгине 3., планы визитов к доброму другу Архарет или к Соллогубам, поездок в ряды Гостиного двора, или к шляпнице, или к модистке…
Иногда Марья Алексеевна вспоминала о своей родне – Ганнибалах и Ржевских. И Пушкину довелось услышать много интересного. Знаменитого арапа Ибрагима, своего, камердинера, Петр ночью звал: «Арап!» – «Чего изволите?» – «Подай огня и доску». И маленький арап нес грифельную доску, на которой Петр писал. Однажды Ибрагим закричал: «Царь, царь, из меня кишка лезет!» А это была вовсе не кишка, а глистный червь…
Эти воспоминания не портили аппетита за завтраком…
А через Ржевских, прямой родни Марьи Алексеевны, родословная вела Пушкина далеко, далеко – к самим Рюриковичам, к великим князьям киевским…
История России была как бы и его собственной историей.
И Сергей Львович вспоминал: сколько Пушкиных подписались под грамотой об избрании на царство Романовых? Он считал: стольник Иван – за себя, да за Ивана Григорьевича, да за Гавриила Григорьевича – да Федор, да Михайло, да Никита… Кто смел противиться Петру? Кто смел противиться Екатерине? Пушкины – стольники, послы, воеводы… Да, на каждой странице русской истории было имя Пушкиных!
После завтрака расходились. Ольга садилась за фортепиано. Сергей Львович и Надежда Осиповна писали письма. «Мой добрый друг», – начинала Надежда Осиповна и писала о здоровье – своем, мужа, детей – и о новостях. Она обходилась без точек, одними запятыми, и неожиданно ставила заглавные буквы посредине фразы. «Добрый друг мой», – продолжал Сергей Львович; он, подражая Карамзину, почти всюду точку заменял на тире. Писали в Москву – Василию Львовичу, Анне Львовне, Сонцевым; писали давним друзьям.
Потом Надежда Осиповна работала на канве: она вышивала собаку. И Сергей Львович трудился: он продолжал сочинение на французском языке по истории русской литературы…
Дни тянулись однообразно. Вдруг Надежда Осиповна вспоминала о хозяйстве: отдавала распоряжения повару, проверяла счета или вдруг повелевала вынуть столовое серебро; серебро от курения чернеет и портится, и, уличая преступников, она разглядывала на свету ковшики для супа, ложки, ножи, вилки, солонки, сахарницы с ситечком, хрустальные масленицы с серебряным поддоном…
Сергей Львович днем спал, а потом расспрашивал Никиту Тимофеевича:
– Слушай, старый хрен, какой я сон видел. – Когда он говорил по-русски, он говорил просто. – Будто сын мой едет за границу – и не может со мной проститься. Что это значит?
– Ох, батюшка, ох, ясное солнышко наше, Сергей Львович, – восклицал чувствительный Никита Тимофеевич. – Ох, сон твой не к ладу… Ох, вся душенька моя переворачивается…
А иногда Сергей Львович исполнял святую обязанность, возложенную на каждого русского помещика: быть не только добрым отцом, но и строгим судьей большой своей семьи крепостных.
Он усаживался в кресло, а дворовые толпились в дверях.
– Итак, – говорил он, – я ваш судья. Ты (он обращался к истцу, буфетчику) говоришь, что он (речь шла о Никешке – кудрявом, молодом слуге) украл из буфета. – Сергей Львович надушенным платком отгонял дурные запахи. – Я выслушал вас обоих. Бранью на брань не отвечать. Итак, я принял решение. – И приказывал буфетчику: – Бей его по щекам и таскай за волосы…
Никешка, малодушный вор, падал на колени, прося пощады, Сергей Львович спрашивал буфетчика:
– Ты прощаешь его?
– Бог с ним, с окаянным, – отвечал сердобольный буфетчик.
И, глядя на трогательную эту сцену, Сергей Львович задумывал новую повесть во вкусе Карамзина.
Суд Надежды Осиповны был быстрее и энергичнее, слышались звуки раздаваемых пощечин и гневный крик:
– Пугачев!
Жадно следили за слухами о дворе: тогда-то и там-то было катание; граф Кочубей с дочерью Nathalie были приглашены; за ужином дамы сидели за столом, а мужчины ужинали стоя…
И пугались: вдруг не прислали билеты в Эрмитажный театр – а билеты полагались Сергею Львовичу, имеющему чин пятого класса, – что это могло значить: интриги врагов, незаслуженный гнев царя?