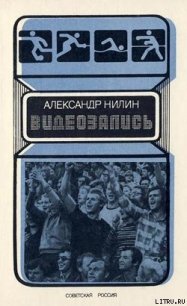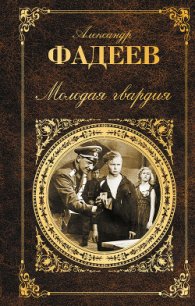Стрельцов. Человек без локтей - Нилин Александр Павлович (смотреть онлайн бесплатно книга .txt) 📗
Но толпа и не читает великих писателей, ограничивается знанием имен некоторых из них — для разгадывания кроссвордов… А сегодня и писатели — не скажу про великих, близко никого из них не знаю — вряд ли друг друга читают.
Футбольные тренеры — и великие, и не великие — встречаются на более узкой соревновательной тропе, чем деятели литературы. (Сегодня, между прочим, из-за общности методик, образцов и влияний извне выделить великих труднее, чем во времена, которые описываю; на слуху скорее имена фартовых, что совсем немало: то есть немало не в том смысле, что имена специалистов известны, а в том, что притягивают они к себе удачу.) И не замечать одному другого и всех остальных коллег нет никакой возможности. Но вражда чаще мешает оценить достоинства соперников, что вообще-то для победы над ними необходимо.
Не стану утверждать, что тренеры-классики умели во всех случаях уважать собратьев по ремеслу и в своих высказываниях о конкурентах придерживались цеховой корпоративности: я сам слышал нелестные отзывы Якушина об Аркадьеве, когда им и делить уже было нечего, недоброжелательные слова о Бескове; слышал и от Бескова уверения в том, что превзошел он и самых знаменитых из старших предшественников…
Но и Якушин, пришедший вместо Аркадьева в послевоенное «Динамо», не ломал из самолюбия выстроенное Борисом Андреевичем, а с молодой энергией стал строить то, что предшественник, на взгляд «Михея», в своем проектировании упустил — и теперь наверстывал упущенное, работая в ЦДКА. И Маслов не захотел убивать в игроках то, что привил им, что посеял в них Бесков, а распорядился выученными другим игроками, согласно собственным воззрениям на футбол.
Во второй половине шестидесятых содержание футбольной жизни в СССР составило тренерское соперничество Бескова и Маслова, руководивших московским и киевским «Динамо». А вот за десятилетие до того они, не сговариваясь, не союзничая, потрудились над «Торпедо».
«…ГЛАЗУНОВ, СТРЕЛЬЦОВ И ЕВТУШЕНКО»
По утрам они собирались на краю своей торпедовской улицы — возле входа в метро «Автозаводская». Отсюда автобус увозил их на службу — в Мячково, где жили они на сборах. А пока ждали транспорт, шутили и беседовали с Лизой, прозванной ими Зулейкой, — она сидела в своем павильончике для чистки обуви, торговала гуталином и шнурками, смуглая, эксцентрично-энергично миниатюрная, с жарко-темными глазами и бойким, завлекающим говорком. Безоговорочная спартаковская болельщица, она стала сердечным другом — забытое сегодня сочетание — торпедовцев стрельцовско-ивановского созыва (Зулейка и Кузьма ровесники). Мне рассказывали, что Слава Метревели — уж не знаю, насколько всерьез — делал ей предложение. Но, как я понимаю, у Лизы, не монашки по всей вероятности, длился платонический роман со всем «Торпедо», включая тренера Маслова. Она превращалась в достопримечательность всякого района, где работала. Конец века она застала в будке на Никольской, рядом с ГУМом, — и ее иногда снимают для телевидения, интервьюируют: кладезь занимательной информации. Правда, расспрашивают ее про самых знаменитых, у которых она и дома бывала, которые поверяли ей секреты, которые привозили ей в подарок разные тряпки из-за границы. А для меня, например, Лиза особенно замечательна тем, что в цепкой памяти сердца она держит всю компанию тогдашнюю: люди состарились, спились, умерли, кто-то и при жизни наглухо забыт, смыт злым течением времени, а в Лизиных хрониках, как именую я для себя ее рассказы, где и документ всегда вроде бы подлинный и вместе с тем ни о ком плохого слова, тем более при посторонних, все друзья прожитых лет остались красивыми и молодыми. Да и кто сейчас, кроме постаревшей Зулейки, видит исчезнувшую компанию не просто стайкой бравых парней, а загадочными и одинокими мирами, вне зависимости от высот признания или перепада высот: спортивная известность более всего похожа на электрическую лампочку, которая ярче всего вспыхивает перед тем, как навсегда погаснуть…
Простые ребята, весело толковавшие, от нечего делать, с чистильщицей ботинок, — и вот, полувека не прошло, а один из них в полукилометре каком-нибудь от метро стоит бронзово-изваянный и на пьедестале.
Они топтались в одинаковых иностранных плащах с погончиками, а указующий перст невидимой угрозы уже задержался на том, кто станет в самом конце века натурой для скульптора.
Все они одеты по тем временам на редкость хорошо, но иноземный «прикид» на Эдике — при его-то стати — показался кому-то нарядом эпатирующим, вызывающим нежелательные для ревнителей советской идеологии параллели: «стиляга и стрельцов».
Стиляга и Стрельцов — в закавыченных для моего злорадного цитирования рифмованных строчках, выхлестнувших из-под пера культово-либерального поэта вскоре после несчастья с Эдиком. Оба явления преподнесены с маленькой буквы…
Борьба советской власти и ее идеологических институтов со стилягами затянулась на десятилетие. Сам термин, ядовито прилипчивый, сочинил фельетонист из «Крокодила» Николай Беляев (он и в редакторах этого журнала побывал) в сорок девятом году. Но и в пятьдесят седьмом — пятьдесят восьмом, когда в комсомольской прессе начиналась казнь Стрельцова, Эдуарда искусственно пристегнули к тем, кто не переставал быть объектом сатиры.
Стрельцов стилягой не был.
А и был бы, что уж такого предосудительного? — резонно спросят меня сегодняшние люди, начитавшиеся мемуарных книг Виктора Славкина и саксофониста Алексея Козлова (того, который «Козел на саксе», как говорят про него герои пьесы «Взрослая дочь молодого человека»). Сколько талантливых, широко признанных теперь людей вставали на толстую — и часто самодельную — подошву, натягивали с мылом узкие самострочные брюки, взбивали кок (вот кок, как мы уже знаем, и великий футболист наш носил), вывязывали галстуки с пальмами и голыми дамами… Их так долго встречали по одежке блюстители нравов, что заметить не успели, что мир меняется в направлении, о котором любители джаза и танцев под джаз узнали раньше верноподданных комсомольцев. Ну а что касается моды, то в ней во все времена бывали свои первопроходцы-разведчики — стиляги, первыми улавливающие перспективу, которую несут в себе неожиданности кройки и шитья. Ну и разве грех — неудержимая потребность в особом стиле жизни?
Но я не собираюсь сию минуту лезть в эти чрезвычайно любопытные дебри. Меня сейчас занимает только контекст стрельцовского времени.
И критиков Эдика — добровольных и ангажированных — я тоже очень бы хотел понять. Тем более что из моего повествования о Стрельцове вряд ли вырисовывается некто с крылышками за чуть-чуть сутулой спиной.
Конечно, на придирки к нему он часто сам и напрашивался.
Но неужели человек, чья футбольная гениальность никогда не вызывала сомнений, не заслуживает того, чтобы быть рассмотренным отдельно и особо, не добираясь сотым до сотни, говоря словами другого поэта, пострадавшего в один год со Стрельцовым?
Собственно, на подсознательном уровне Эдуарда давно выделили, как не выделяли ни до, ни после никого из самых замечательных спортсменов. Время выразилось не в одном таланте его, а в славе, неуместной в том регламенте, что был принят тогда в нашей северной стране, — время рвалось вперед, а его по советской привычке сдерживали недозволенными приемами.
Автор строчки, где спряглись «стиляга и стрельцов», Евгений Евтушенко сначала ввел Эдуарда в свою прозу под именем Коки Кутузова. Трудно сказать, до или после фельетона с поставленным Стрельцову диагнозом звездной болезни закончил он работу над рукописью рассказа, но точно, что сочинял его после первого июня пятьдесят седьмого года, когда сборная СССР играла в Лужниках против румын. В рассказе Евгения Александровича он и его друзья в каком-то захудалом ресторанчике, который им, безденежным юношам, по карману, встречают своего соседа — футболиста, нарушающего спортивный режим накануне ответственного матча, неумеренно пьющего пиво. Рассказ называется «Третья Мещанская», а Стрельцов из Перова, но поэт разрушает автобиографичность своей прозы ради того, чтобы укрепить ее выразительнейшим знаком: присутствием в жизни автора футболиста номер один. Первый поэт и первый футболист обязаны соседствовать в завоеванном знаменитостями мире. Летом в Коктебеле, когда Эдик будет уже приговорен к лесоповалу, Евтушенко скажет: «У советской молодежи есть три кумира — Глазунов, Стрельцов и Евтушенко». Что не помешает ему очень-очень скоро — поэма опубликована в десятой, октябрьской книжке толстого журнала — для рифмы к слову отцов (речь идет о наплевательском отношении к памяти старшего поколения) соединить Стрельцова со стилягами. Вообще-то и претензии к стилягам в творчестве «первого поэта» не до конца ясны для меня. Помните: «И пили сталинградские стиляги»? Дальше стиляги стреляют там — в стихотворении — винными пробками в стену, где написано: «Сталинград не отдадим». Евтушенко-то зачем встречать кого-либо по одежке? Сам же вроде бы натерпелся от советских пуритан и просто недоброжелателей. Еще в начале пятидесятых в стенной газете Союза писателей Константин Ваншенкин посвятил ему дружеские стихи, где проходился по длиннополым пиджакам и всему прочему, в чем щеголял недовольный в недалеком будущем стилягами стихотворец. Много позже Евтушенко опубликует стихи, посвященные их давнему спору-ссоре с Василием Шукшиным. Шукшин, избранный во ВГИКе не то комсомольским секретарем, не то — не помню точно — в институтский комитет комсомола, чуть ли не сам ножницами резал узкие штаны различным маменькиным и папенькиным сынкам, с его точки зрения, затесавшимся в престижный вуз. А в стихах Евтушенко предлагает автору снять позорящий его, как сибиряка со станции Зима, галстук-бабочку. Поэт же заявляет Шукшину, что и сапоги кирзовые — точно такое же пижонство и выпендреж, если человек, сыгравший в кино главную роль, в состоянии купить себе хорошие и дорогие ботинки. И он скинет свою «бабочку» лишь при условии, что Василий Макарыч вылезет из своих «кирзачей»…