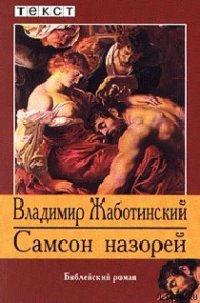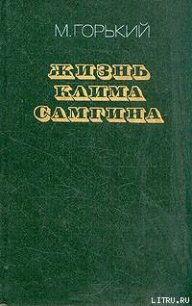Повесть моих дней - Жаботинский Владимир Евгеньевич (библиотека книг txt) 📗
а) над общим французским обозрением под названием «Младотурок»;
б) над сионистским еженедельником, тоже на французском языке; под названием «Л'орор» («Заря»);
в) над «Эль худео», еженедельником на испанском языке;
г) по истечении некоторого времени к ним добавился «Гамевассер», еженедельник на древнееврейском языке.
Я сомневаюсь, чтобы капитал, который мы собрали для их издания в России, насчитывал в целом 20000 франков, хотя франк в эти годы и котировался высоко, особенно в Турции.
Разумеется, я не мог «редактировать» этот бумажный потоп. Я выполнял ту же функцию, которую сегодня в стране советов выполняют политкомиссары. Истинным редактором обозрения был настоящий турок Джалаль Бури-бей, молодой человек, учившийся в Бельгии, сын высокопоставленного чиновника, правителя округа в Азии или что-то в этом роде. Испанский журнал редактировал Давид Эльканава, или вернее, ему незачем было «редактировать» его, ибо он собственноручно писал его от первой строки до последней. И собственноручно также наклеивал марки, вел бухгалтерские книги, равно как находил сам подписчиков и объявления. Был он юноша старательный и восторженный, верный сионист и вообще милый человек. А Люсьен Шуто, редактор французской «Зари», — тот вообще был журналист милостью Божьей, удачное сочетание ясного реалистического ума с быстротой реакции и эластичностью богатого и отточенного языка.
Финансовой стороной этого сложного дела ведал Гохберг, представитель переходного периода от «Хиббат Цион» к политическому сионизму. Он провел двадцать лет в Эрец-Исраэль и в Сирии, знал Восток и его обычаи, был знаком с деятелями прежнего режима: вскоре я убедился в том, что это тоже очень важно, не менее важно, чем знать руководителей нового режима. Юридическим и политическим советником был у нас Исаак Нофех, который за несколько лет до этого приехал в Константинополь изучать турецкое судопроизводство.
Среди евреев наша работа процветала. Если есть переселение душ и если, прежде чем моя душа народится во второй раз, будет мне дозволено свыше избрать себе народ и племя по своей воле, я отвечу: «all right», Израиль, но на этот раз — сефардский. Я влюбился в сефардов, и, возможно, именно в те качества, над которыми смеются их ашкеназские братья: их «поверхностность» я семикратно предпочитаю нашей беспредметной глубине, их инерция милее мне нашей склонности преследовать каждую переменчивую химеру; поколения философской и политической спячки спасли их душевную свежесть; а что касается культурного богатства, — я сомневаюсь в том, что человека к порогу западной цивилизации (ибо не иначе: цивилизация и Запад — одно и то же) приблизит фунт французского и итальянского образования или тонна русской мистики. В Салониках, в Александрии, в Каире вы найдете еврейскую интеллигенцию того же уровня, что в Варшаве и в Риге; а в Италии — на голову выше той, что в Париже или в Вене. Лишь один крупный недостаток я согласен признать за ними: в сфере сионистской деятельности (хотя среди них национальная идея больше распространена, чем среди нас) еще нет у них аппетита завоевания, нет амбиций, но и они пробудят-пробудятся в свое время.
В еврейской среде наша пропаганда была успешной в обеих общинах: и в ашкеназской, и в сефардской. Но не добился я успеха, например, у Назим-бея, генерального секретаря партии младотурков, отца и истинного инициатора революции, возможно, послужившего решающим человеческим фактором, который помог ускорить крушение Оттоманской империи. Это был человек непритязательный и бедный, как средневековый подвижник, холодный и застывший в своем фанатизме, как Торквемада, слепой и глухой к действительности, как чурбан. Снова тот же напев: несть эллина, несть армянина, все мы оттоманы. И мы будем рады приезду евреев — в Македонию. Та же песня у всех министров, депутатов парламента журналистов. В общем, не в моей привычке считаться с первым отказом, исходящим от непреклонных, а также со вторым и с третьим отказом: может, они переменят свое убеждение, подождем и увидим. Но здесь я сразу почувствовал, что никакой опыт не поможет, никакое давление: здесь отказ органический, обязательный, общая ассимиляция — условие условий для существования абсурда, величаемого их империей, и нет другой надежды для сионизма, кроме как разбить вдребезги сам абсурд.
Я ненавидел Константинополь и свою работу, работу впустую. Зимой я поехал в Гамбург, на девятый конгресс, я очень наслаждался передышкой, великолепием Европы, стремясь забыть на какое-то время опостылевший мне Восток, но на конгрессе, как и прежде, у меня не было никакого другого дела, кроме как голосовать, по большей части вместе с остальными делегатами из России. Я вернулся в Константинополь с сердцем, снова полным тем же беспокойством неудовлетворенности и бунта против себя, которые погнали меня в Вену. Якобсон заболел еще до нашего выезда в Гамбург и после конгресса остался лечиться в Европе, и в Константинополе Гохберг показал мне бухгалтерские книги — очень немного осталось в нашей кассе от денег, собранных в России. Я написал в Кельн, где жил Вольфсон, в Одессу, в Вильну: все ответили мне просьбой дать совет — что делать? Все же мы продолжали свою работу с энергией и решительностью.
И летом 1910 года разразился между мной и Вольфсоном очень тяжелый конфликт. Сионистское руководство в те времена состояло из тройки: Вольфсона, президента, и его заместителей — Якобуса Когена из Гааги и Боденгеймера из Кельна. За год до этого Якобус Коген посетил Палестину, написал книгу о своих путевых впечатлениях и выпустил ее тремя великолепными изданиями: голландским, немецким и французским. Я получил книгу в Константинополе и оторопел: простосердечно и громогласно Якобус Коген требовал в ней государственной автономии и еврейского самоуправления для Палестины, а также создания еврейской армии для поддержания порядка, и все это без промедления, тотчас же, в наши дни. Ревизионист до дарования ревизионистской Торы! Ирония судьбы и более чем ирония — комедия, что именно я, я и не кто другой, был поражен этими идеями. Однако, клянусь жизнью, меня поразили не идеи, а анархия, царившая в нашем правлении. Здесь, в Константинополе, всего годом ранее, мы вместе с президентом и с Якобсоном установили рамки нашей программы. Мы требовали алии и языка, и только алии и языка. Но даже намеком не упомянули мы такие опасные вещи, как автономия, — запретное слово, которое в ушах младотурок являлось пределом «трефного» и верхом мерзости; и мы решили не отклоняться ни на волос от этой тактической линии, ни вправо, ни влево, пока не изгонят нас из Турции и не закроют все наши газеты. И тут выступает заместитель этого президента и заявляет совершенно недвусмысленно, что представители сионистской организации в Константинополе — обманщики. Мил мне государственный сионизм, с дней моего детства я не знал другого сионизма, но логика мне милей. Я не только поразился, но и рассердился, и написал подробное письмо Вольфсону с настоятельной просьбой приостановить распространение книги.