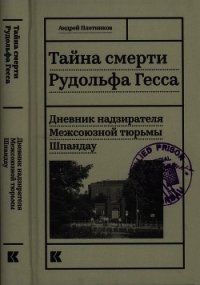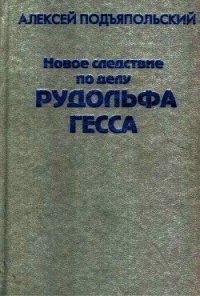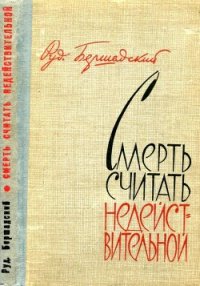Комендант Освенцима. Автобиографические записки Рудольфа Гесса - Гесс Рудольф (библиотека книг бесплатно без регистрации .TXT) 📗
Ценность автобиографии Гесса как исторического источника заключается, конечно, не только в представлении подробных сведений о системе концентрационных лагерей и о катастрофе Освенцима. Автобиография также представляет собой самоотчет человека, создавшего концлагерь Освенцим и распоряжавшегося в нем. Это и описание типа людей, которые обслуживали фабрику смерти, объяснение их душевной конституции, определение умственных и психических свойств, открывшихся в практике массовых убийств. В своих записках Гесс подсознательно стремится к ясности в этих вопросах, и здесь, возможно, наблюдается его высшее духовное достижение. Случай Гесса со всей очевидностью показывает, что массовые убийства не связаны с такими качествами, как личная жестокость, дьявольский садизм, кровожадность, с так называемой «озверелостью», которые простодушно считаются атрибутом убийц. Записки Гесса радикально опровергают эти крайне наивные представления, но воссоздают портрет человека, который действительно руководил повседневным убийством евреев. В общем и целом этот человек был вполне зауряден и ни в коем случае не зол. Напротив, он имел чувство долга, любил порядок, животных и природу, имел своего рода склонность к духовной жизни и даже мог считаться «моральным». Одним словом, автобиография Гесса — указание на то, что подобные качества не предохраняют от бесчеловечности, что они могут быть извращены и поставлены на службу политической преступности. Записки Гесса тем и ужасны, что они основаны на вполне обывательском сознании. Эта автобиография больше не позволяет категорически отделять жестоких по натуре от тех, кто выполнял свое дело из чувства долга, или от людей, благую природу которых извратило дьявольское ремесло. Пример Гесса показывает: бесчеловечную суть Третьего рейха нельзя понять, есть свести газовые камеры и концлагеря лишь к проявлению особой тевтонской жестокости. Несомненно, концлагеря закономерно становились сборным пунктом для опустившихся и одичавших личностей из рядов СС, причем систематическое воспитание надзорсостава в духе непременной твердости, а также идеологическая апелляция к низменным инстинктам усугубляли эти пороки. Гиммлер, Гейдрих или Айке (инспектор концентрационных лагерей) допускали и всячески покрывали произвол отдельных комендантов и надзирателей по отношению к заключенным, брали их на заметку, чтобы повысить уровень террора. И все же этот дьявольский расчет на низменные инстинкты и порывы (а Гиммлер, в своей манере величайшего макиавеллиста, не упускал из виду и их), не был основой системы. Он не соответствовал представлениям самого Гиммлера о желаемом. Произвольные истязания заключенных отдельными эсэсовцами, их собственный садизм, и даже случаи наживы на заключенных — это расценивалось Гиммлером как слабость, наравне с порывами сострадания. Его идеал воплощался в дисциплинированном лагеркоменданте типа Гесса, который был безоглядно исполнителен, не боялся никаких приказов, и при этом оставался лично «порядочным». Начальник лагеря Освенцим-Биркенау оправдал все ожидания Гиммлера, который 4 октября 1943 г. заявил на собрании руководства СС по поводу уничтожения евреев:
«Большинство из вас знает, что такое видеть сто или пятьсот, или тысячу уложенных в ряд трупов. Суметь стойко выдержать это, не считая отдельных случаев проявления человеческой слабости, и остаться при этом порядочными — именно это закалило нас. Это славная страница нашей истории, которая еще не была написана и которая никогда не будет написана» [13].
В этих словах провозглашается то же истолкование механической исполнительности как высшей добродетели, что и в записках Гесса. Гесс неуклонно повторяет в них, как он боролся с «гангстерскими типами» из эсэсовского надзорсостава, с чувством собственного достоинства он заявляет, что издевательства и произвол надзирателей наравне с их «халатным добродушием» подрывали систему концлагерей. Идеальными для национал-социализма комендантами были в конечном счете не лично жестокие, развратные и опустившиеся личности из числа эсэсовцев, а Гесс и ему подобные. Их «самоотверженность» на службе в концлагерях и их неустанная деятельность делали систему лагерей работоспособной. Благодаря их «добросовестности» то, что имело вид учреждения порядка и воспитания, было инструментом террора. Они также были исполнителями «гигиенических» массовых убийств в таких формах, которые позволяли убийцам тысяч людей не чувствовать себя убийцами. Потому что как операторы газовых камер они чувствовали свое превосходство над обычными убийцами, взломщиками банков и асоциальными элементами. Исполнители были слишком чуткими, чтобы постоянно иметь дело с кровью. Здесь примечательно то место в записках Гесса, где он рассказывает, как испытал чувство облегчения, выяснив, что с помощью «Циклона-Б» массовые убийства можно проводить просто, бесшумно и бескровно (стр. 122 и далее). Чем меньше крови, истязаний, извращений было при убийствах, чем больше они приобретали организованный, «фабричный», «чисто» военный вид, чем больше массовые убийства оказывались четкой работой анонимного механизма, тем меньше эти события волновали. Тем вернее массовые убийства вписывались в доктрину искоренения «расово и биологически чуждых элементов и осквернителей народа», в которой убийства евреев становились необходимым актом всенародной «борьбы с вредителями» [14]. Впрочем, и сама по себе кошмарная массовость убийств, крайняя безликость униформированной массы заключенных, дьявольские инсценировки, придававшие исполнительным органам СС вид еврейских зондеркоманд, — все это психологически ограждало надзорсостав и от порывов сострадания, и от случаев депрессии. Биография Гесса объясняет, что технику массовых убийств изобрели и использовали не какие-то выродки — нет, это стало делом самолюбивых, одержимых чувством долга, авторитарных, воспитанных в традиции быть послушными до состояния падали, надменных обывателей, которые позволили убедить себя и убедили себя сами, что «ликвидация» сотен тысяч людей была службой народу и отечеству.
Самой страшной манифестацией этого документа нам кажется та уже отмеченная связь между обывательским высокомерием и услужливой сентиментальностью с одной стороны, и ледяной беспощадностью исполнителя — с другой. Газовые камеры не способны растревожить душу сентиментального убийцы, убийство становится техникой, голым организационным вопросом — этот дух механического Гесс демонстрирует в крайнем своем проявлении. Он человек, для которого массовые убийства — это только справедливость. Он должен принимать неизбежное и выполнять долг, не задумываясь о последствиях, но при этом он ошеломлен «криминальными деликтами», а обсуждая сексуальные аномалии, он брезгливо морщится. Писатель Гесс здесь вовсе не отличается от коменданта Гесса. «Духовная жизнь» Гесса, о которой он часто заводит речь в автобиографии, лишь заменяет действительность. Одновременно она и «эстетический» отдых от бесчеловечного ремесла. Но его «духовность» не имеет связи с внешним миром. Это сентиментальность интроверта, играющего роль для самого себя. Содержание души Гесса раскрывает его рассказ про то, как после массовой расправы в газовых камерах он искал успокоения у лошади в стойле. Она раскрывается в мнимо простодушном рассказе о доверчивых цыганских детях в Освенциме, которые были его «любимыми заключенными». Душа Гесса обнажается, когда он делает этнографические зарисовки или когда он с непревзойденной бестактностью заканчивает описание своих переживаний после первого опыта с массовым убийством в газовых камерах: «Сотни цветущих людей шли под цветущими фруктовыми деревьями крестьянского двора [где находились газовые камеры — ред.], не ведая о своей обреченности. Эта картина жизни и ухода из нее и сейчас ярко стоит перед моими глазами» (стр.153/54). До Гесса не доходит ирония его сердечных излияний, он просто не улавливает их непристойности. Все его описания массовых удушений сделаны как будто сторонним созерцателем. Гесс бережет себя от признаний в убийстве, которое почти ежедневно совершалось под его руководством в тысяче разных форм. Но убийства сопровождались душераздирающими сценами, и Гесс ставит себе в заслугу свою впечатлительность. Сосуществование бесчувственности к массовым убийствам и велеречивое их описание показывает в Гессе самоуверенность буквально шизофренического сознания. Характерно при этом, среди прочих, то место (стр. 104), где Гесс описывает доверчивость цыганских детей к врачам, делавшим им смертельные инъекции: «Право же, нет ничего тяжелее, чем быть вынужденным хладнокровно, без сострадания и жалости совершить это». Свойственный Гессу эгоцентризм позволяет превратить убийство беззащитных детей в трагедию убийцы. Ту же гнусность иллюстрирует морализаторская самоуверенность Гесса в его рассказе об участии еврейских зондеркоманд в уничтожении собратьев по расе и вере (стр. 126). Он, беспрекословно выполнивший все приказы об убийствах, и как комендант ответственный также за циничную практику привлечения евреев к самой грязной части этой «работы», берется судить обреченных людей, пытавшихся вымолить себе отсрочку.